|
Юрий Норштейн: Тайновидение

Я расскажу, какие стадии работы на пути к Акакию Акакиевичу мы прошли с художником Франческой Ярбусовой и кинооператором Александром Жуковским. И начну с того, что неясно различимый в сознании и нарисованный как можно мельче персонаж при фотоувеличении открывает зрению то, что проявила фантазия.
В укрупненном изображении мы отыскиваем, распознаем некоторые черты, фигуру, лицо, проясняем свое представление о персонаже. Чтобы разобраться в этом методе работы, посмотрим фрагментарно живопись «малых голландцев». Я вновь обращаюсь к живописи. При небольшом размере полотен живопись наполнена ничем не примечательной жизнью. В пейзажах всегда горизонт (Голландия – равнинная страна, ниже уровня моря). Как правило, пейзаж оживлен жанровой сценой. Жизнь как будто врасплох. В питейных домах – игра в кости, кутежи, поножовщина. Обязательный атрибут – в сторонке справляющий малую нужду. В отличие от русских передвижников никаких социальных установок. В сущности, эта живопись– хроника времени, почти репортаж. Глазу интересно путешествовать по горизонту, высоким облакам, вернуться на землю и разглядывать отдельные группки людей. Каждый из них чем-то усердно занят, как могут быть заняты дети и пьяницы. Если жанр, то непременно попойка, где перемешались игра в кости, подтирка попы младенца, попытка нашарить грудь подруги. Кто-то упорно пытается преодолеть лестницу, и это ему плохо удается.
Выберем какую-то одну фигурку на общем плане. Голландский мастер в малом пространстве в два-три сантиметра прошивает ее двумя-тремя красочными стежками. На подобные строчки уходит три-пять секунд. Несколько ударов кисти – фигура ожила.
В малом, то есть подлинном ее размере глаз не схватывает живописную бесконечность. Но какое фактурное богатство открывает нам увеличение маленького фрагмента до тридцати-сорока сантиметров или же до одного метра, если условия позволяют! Мы различаем цветовые смеси, подробности, скрытые от самого автора, точнее, от его глаза, но не от пальцев и тайновидения.
Открывается трепет живописного слоя, единого движения кисти, пронзающего целиком фигуру, обнажается иной, грозный смысл происходящего; красочный слой обретает корпусность, динамичность, драматизм. В живописи звучат трагические раскаты, характерные для позднего Франсиско Гойи, который едва ли не одним движением кисти воспламенял живописную фактуру. Гойя перекрывал пространство огромной фигурой с той же скоростью, что и голландский художник пространственную величину с почтовую марку. Если взять живопись Гойи и сопоставить с увеличенной в ее размер фигурой с картины голландца, эффект ошеломляющий.
Но почему в связи с мультипликацией и разработкой персонажа я все же в первую очередь вспоминаю «малых голландцев» – Адриана ван Остаде, Хендрика Аверкампа, Яна ван Гойена, Яна Стена, Адриана Брауэра? Потому что если в большом размере испанский мастер создает ошеломляющее напряжение между семантикой живописи как таковой и персонажем, и мы непрерывны в путешествии по гойевским страстям, то у голландского живописца вообще нет такой задачи. Но в этом и загадка. Очевидно, помимо жанровости задачи и удовлетворения вкусов заказчика есть бессознательное ощущение жизни, где-то на небесах объединяющее Гойю и голландцев, как объединены, скажем, Веласкес и Эдуард Мане. Есть правда, есть точность взгляда ребенка, подмечающего детали. Они не говорят ничего самому ребенку, но взрослый удивлен их правдивости.
Боровиковский не ставил задачу раскрыть на парадном портрете трагизм Павла I. Само получилось под непосредственным взглядом ребенка и мастера. В высоких ботфортах не по ноге, закутанный в мантию, на голове как-то криво, не по размеру, корона – в этом жажда покрасоваться во всем блеске. Кукла в парче и соболях – один из самых трагических портретов царской династии. То же и у голландских живописцев. На общем плане – жанр, крупно – драматический спектакль.
Я бы еще хотел вспомнить «большого голландца» Рембрандта и его «Возвращение блудного сына».
Тот же эффект, что и у Гойи. Рембрандт машет кистью, как дворник метлой. Спина преклоненного сына написана с огромной скоростью. Отчетливо сквозь лессировку проступает корпусность живописи, движение волосяных прядей кисти-метлы.
И хотя в других вещах Рембрандт, может быть, более блистателен и виртуозен как живописец, но я люблю эту картину, наверное, потому, что внутри нее замкнуто время. Оно как бы замкнуто на себе, и, углубляясь, входя в эту вещь, ты постоянно проходишь некий путь. Здесь время остановилось, событие произошло, все находится в настоящем, будущем и прошедшем времени одновременно. И твой взгляд беспрерывно путешествует между персонажами этой картины – постоянно от спины преклоненного сына к лицу старика, потом уходит в темноту, потом замечает соседей, стоящих рядом, и снова возвращается к сыну и т.д. Все время идет это путешествие. Я думаю, то, что здесь произошло, можно назвать событием остановленного времени, которое начинает развиваться внутри себя. Кроме того, для меня это переход от чистой живописи к сюжету, который всем известен, от сюжета к пространству композиции, которая поражает своей простотой и какой-то почти вульгарной грубостью, но в этом-то и есть невероятная нежность этой живописи. Ты постоянно переходишь от одного живописного слоя к другому, с одного миропонимания на другое, и ты не можешь ни на чем полностью остановиться, тебя тянет дальше.
И эта тяга, очевидно, и содержит в себе категорию времени.
Смею предположить, что только религиозным сюжетом такие картины не вызываются к жизни из небытия. Тут, на мой взгляд, личная судьба и трагедия потери Рембрандтом его собственного сына Титуса. Существует предсмертный его портрет: обожженный горячим дыханием рот, лихорадочные глаза, впалые щеки. Профессиональный клиницист установил бы точную причину смерти. Предполагаю, что «Возвращением блудного сына» Рембрандт возвращал своего собственного. Я всего лишь предполагаю, мне представляется, что Рембрандт спину и затылок «блудного сына» писал со своего ребенка. А как еще творятся великие произведения, если не собственной судьбой?
Что, как не судьба, двигало рукой дряхлеющего Микеланджело, когда он работал над скульптурой, которая вошла в историю искусств под названием «Пьета Ронданини»?
В предсмертные дни жизни мастера не интересует такое понятие, как успех. Для него близость смерти и близость к Богу превыше успеха, который он может в очередной раз испытать, но в нем уже не будет возвышенности переживания. И мне кажется, свою работу над скульптурой Девы Марии с телом распятого Сына (а это, наверное, самый великий сюжет, который когдалибо был в истории) по всему строю и направленности мысли и чувствования Микеланджело и не должен был закончить, не должен был бы превратить ее в очередное совершенство. В данном случае, на мой взгляд, в этой скульптуре его интересовал лишь собственный процесс приближения к какому-то только ему открывавшемуся идеалу или к каким-то только для него открытым воротам. И этот процесс должен был быть вечным. Завершение работы означало бы остановку времени, то есть – смерть…
Почему я говорю, что процесс не закончен? Ведь дело в том, что Микеланджело начал работать над этой вещью как над заказной, и, доведя ее до какого-то (мы теперь можем только предполагать – какого) финала, он вдруг разбивает сделанную часть своей работы и переделывает заново, что в камне практически невозможно. Я думаю, в этом было не стремление к совершенству, что само по себе, конечно, является огромным стимулом, а в этом было стремление как можно сильнее отождествить себя с собственным творением, которое должно было развиваться так же, как и сам автор, даже в последние дни жизни. Вообще для Микеланджело жизнь стала невыносимой, и в этом состоянии ему хотелось уйти за грань. И то, что он делал, являлось частью чего-то целого и великого, поэтому он так спокойно мог разрушить сделанное и продолжить заново.
Сама скульптура и в сохранившемся виде смотрится удивительно и потрясающе. Но кроме того, в новом времени она приобрела колоссальный современный смысл и стала по существу ровесницей ХХ века и тех пластических открытий, которые делались в искусстве. Я думаю, что сегодня каждый обращает внимание на то, что в нашем столетии, в сравнении, например, с эпохой Возрождения, совершенного – по существу– произведения сделано не было. ХХ век – это постоянное движение, постоянное нахождение во власти у энергии самой жизни, вне пути к идеалу. Или ты приходишь к нему, и он останавливает твою жизнь, и ты считаешь, что миг завершен и закончен, и дальше нечему развиваться. Или же ты, находясь постоянно в скоростном движении, проходишь мимо всего сущностного, полагая, что все равно это временные вехи на пути к чему-то более совершенному. Поэтому можно сказать, что идеал является парадоксом ХХ столетия. Микеланджело загнал себя в обстоятельства художника нашего времени, но с тем существенным отличием, что он мучительно переживал несовершенство любого материального воплощения, любого переноса в земные границы, открывающиеся ему по мере приближения к смерти, к истине.
Я думаю, что для художника понятие времени предполагает и стремление к идеалу, и убегание от него, так что окончательного завершения любого произведения быть не может. Тем самым мы брали бы на себя, по существу, миссию Бога, что просто парадоксально. Но если бы меня спросили, что такое понятие времени в той же живописи, я бы, конечно, не смог дать какую-то формулировку. Однако могу сказать точно, что в этом произведении есть время, а в этом – нет.
Например, у Брейгеля в «Несении Креста» оно есть – или у Босха, тоже в «Несении Креста», – поскольку непрерывно развивается, а в какой-то засушенной вещи, которая являет собой мнимый и лживый идеал, нет. И очевидно, что там, где лживость, там отсутствует время.
Лучше всех сказала Франческа, разглядывая репродукцию «Пьеты Ронданини»: «Впечатление, будто мать заново учит ходить своего сына».
|
|

[ № 11, 2007 г. ]
Александр Адабашьян: «С каждым поколением из всё худших детей вырастают всё лучшие отцы»
[персона грата]
Александр Колбовский: Пели два Кобзона
[обозреватель–тв]
Игорь Иртеньев: Пепел и алмаз-2
[нон-стоп]
Ольга Кучкина: Оберег
[проза]
Глеб Шульпяков: Прошлым летом в Красногорске
[старый город]
Лариса Миллер: Из новых стихов
[терра-поэзия]
Дмитрий Смолев: Эпос и пафос
[обозреватель–арт]
 Инна Лиснянская: «Я превратила себя в Старую Суламифь»
[маэстро]
Инна Лиснянская: «Я превратила себя в Старую Суламифь»
[маэстро]
«На моем дворе не кричит петух, У меня в дверях не стоит эпоха. На моем дворе всех сильней лопух, Да и я сама не слабее лоха. Я в безвременье провожу досуг, Холодильник есть, телевизор продан. Приходи поесть, непутевый друг, Приходи попить, деревенский пройда».
Андрей Субботин: Царицыно-Сити
[анфилада]
Дмитрий Смолев: «Не мысли о вещах, но сами вещи»
[артотека]
Артем Варгафтик: Трудное счастье Феликса Мендельсона-Бартольди
[репетиция оркестра]
Глеб Шульпяков: Восхождение
[обозреватель–книги]
Сергей Маркус – Санджар Янышев: Проводник
[table-talk]
Мерет Мейер-Грабер: «Характер Шагала напоминал то, что французы называют „русским салатом“»
[семейные сцены]
Алла Боссарт: Салонные игры
[прозрачные вещи]
Виталий Вульф, Серафима Чеботарь: Вопреки Дягилеву
[театральный роман]
Маша Шахова: Сладости для Кеннеди
[подмосковные вечера]
Ольга Шумяцкая: «Аллес гемахт, Маргарита Пална!»
[киноностальгия]
Святослав Бирюлин: Масляный голос «Детей Афродиты»
[музей звука]
Юрий Рост: Бог погоды
[окно роста]
 Юрий Норштейн: Тайновидение
[норштейн–студия]
Юрий Норштейн: Тайновидение
[норштейн–студия]
«Я расскажу, какие стадии работы на пути к Акакию Акакиевичу мы прошли с художником Франческой Ярбусовой и кинооператором Александром Жуковским. И начну с того, что неясно различимый в сознании и нарисованный как можно мельче персонаж при фотоувеличении открывает зрению то, что проявила фантазия».
Денис Браницкий: Горшок и палочка
[гастроном]
Лев Малхазов: Геометрия Средневековья
[обозреватель–классика]
Сюжет от Войцеховского
Алена Стрекозова: Нескучная жизнь за кадром
[урок труда]
Ольга Шумяцкая: Страшно красивая бессмыслица
[обозреватель–кино]
Марк Водовозов: Чисто английская страсть
[финиш!]
 Виктор Куллэ: «Слова улетают, написанное остается»
[дом с привидениями]
Виктор Куллэ: «Слова улетают, написанное остается»
[дом с привидениями]
«Предположение, что одна из финальных сцен романа Булгакова происходит именно на каменной террасе Пашкова дома, впервые было высказано Константином Симоновым. Косвенным подтверждением могут служить ранние редакции романа, где прямо упоминаются читальные залы».
Александр Васильев: Прюнелевые туфли юных ленинцев
[винтаж]
Святослав Бирюлин: Звуки Museки
[обозреватель–рок/поп]
Лидия Оболенская: Трусы будем носить с бушлатами
[комильфо]
Григорий Заславский: Слово про любовь
[обозреватель–театр]
Теренс Хэнбери Уайт: Хозяин
[fiction прошлого века]
|
|

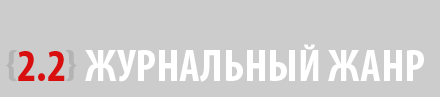




 Юрий Норштейн: Тайновидение
[норштейн–студия]
Юрий Норштейн: Тайновидение
[норштейн–студия]