|
Игорь Чувилин: Шахтерское танго

Когда на рынке в шахтерском поселке у станции Никитовка какой-то немой продавал раскрашенные фотографии Сталина, красавиц и райских уголков, из каждого репродуктора доносилось, что в парке Чаир распускаются розы, а китчевые коврики с лебедями у пруда и обнаженными купальщицами украшали комнаты в бараках, Аркадий Петров только начинал жить. В эпоху развитого социализма скромное цветение в дендрологическом парке Чаир, что в Крыму, уже было недостаточным, из динамиков рассказывалось про тысячи тонн пшеницы, а голосом Аллы Пугачевой – про миллионы роз. Производственные объединения предлагали женщинам страны «перламутровые тени для век различных оттенков», и Аркадий Петров был уже художником.
Перед его первой персональной выставкой в зале на улице Вавилова, по воспоминаниям автора, приходили «какие-то тетки с авоськами» (они же – представительницы инстанций), которые отбирали работы. «А вот эта обнаженная какая-то наглая», – говорили тетки. Петров за ночь пририсовывал обнаженной трусы. На следующий день комиссия констатировала, что бесстыжая стала еще нахальней, и благополучно снимала ее со стены. Потом почти все снятые с той выставки работы оказались в Русском музее. Да что говорить, уже в конце 1980-х Аркадий Петров стал известным художником. Как раз тогда, когда рухнул весь, казалось бы, прочно устроенный мир с эстрадными песнями в репродукторах, серой жизнью, украшенной курортными розами, кумачовыми лозунгами и всем, что к этому прилагалось. В Москве прошли торги Sotheby’s, и картины Петрова хорошо продавались. Звали в Америку, показывали по всему миру, в качестве куратора Петровым занимался Олег Кулик, будущий человек-собака, «озверевший» уже после.

В Петрове было много экзотики. Во-первых, манера – будто бы наивная, неумелая и неправильная живопись, сродни раскрашенным коврикам из детства художника. Во-вторых, образы – советские архетипы. «Я перелопатил тысячи, а может, десятки тысяч фотографий. Когда в одном человеке соединяется все самое типичное для людей его времени, получается сильный образ», – говорит художник. Некоторые зрители потом «узнавали» в собирательных портретах Петрова своих бабушек и дедушек – настолько точно был выбран тип «простого советского человека». Удивительно, как безошибочно узнается время – Петров очень внимателен к типичным деталям, таким как прическа, костюм, посадка головы, улыбка. Почему-то сразу понятно, какой его герой из 30-х, а какой из 50-х годов. Персонажи помещены в райское великолепие рисованных фотографических задников, как в старых фотостудиях: они изображаются в окружении пальм или на фоне Спасской башни, среди крупных цветов или под реактивными истребителями со звездами на крыльях. Совмещение сладостной мечты, казенщины и убожества в образах художника было настолько совершенным и даже органичным, что картины Петрова как-то сразу были приняты соотечественниками – в качестве достоверного отображения советского мини-космоса, а также иностранцами – в качестве русского поп-арта.

Странным образом ностальгия по советским временам началась, когда СССР был еще жив. В самом конце 80-х советский андерграундный аналог западного поп-арта, то есть то, что называют соц-артом, был в наивысшей точке своего подъема. Детальный художественный анализ советской жизни будто бы торопился случиться до того, как начнется по-настоящему новая жизнь. Петров со своим самобытным продуктом попадал на самый гребень волны. С одной стороны – несомненная ирония, довольно безжалостная по отношению к советскому миру и его мифам. С другой – чрезвычайно нежное, теплое отношение к некрасивым персонажам с плоскими мечтами. «Как я могу над ними смеяться? Как я могу смеяться над своей матерью, например?» – говорит художник. А по поводу любви к некрасивым лицам объясняет, что красивые люди, дескать, обласканы вниманием, а некрасивые, даже уродливые – душевнее и лучше.
Женщины у Петрова двух типов – красавицы и просто. Красавицы – это отголосок раскрашенных фотографий кинозвезд, продававшихся вперемешку с порнографическими карточками на рынке в шахтерском поселке Донбасса. Они – мечта. Как Алла Пугачева, портрет которой в исполнении Петрова наделал когда-то много шума. Они такие, какими воспринимаются в подростковом возрасте, когда, по словам художника, «тревожно поднять глаза на женщин. Они все красивые и очень тянут к себе».

Есть у Петрова произведение с замечательным названием «Три девушки и красавица». Стоят три одетые, самые обыкновенные, и одна – с золотыми волосами и обнаженная – ничем на самом деле не отличающаяся от других, но дерзкой своей наготой и золотом волос против пепельных, неярких, как в жизни, причесок подруг намекающая на полную свою нереальность. Разве бродят такие золотоволосые и нагие по грешной земле?
Когда работы Аркадия Петрова обрели успех у западного зрителя, заморские галеристы стали давать всяческие полезные советы живописцу – про то, как удержаться на пике славы. О том, что манеру надо выдерживать узнаваемой, образы – актуально-ностальгическими и т. д. Лучше бы они этого не говорили, потому что Петров сделал все наоборот. Все эти советские лица, школьницы с портретом Сталина, цветочки-розочки и строки популярного танго были для него чем-то внутренне близким, важным. Духовой оркестр играл в небольшом парке между двух шахт, это было в донбасском детстве Аркадия Петрова, и парк этот был зеленый, цветущий, а все вокруг – покрыто серой пылью.

На заказ не получилось. Петров, как и раньше, пошел своей дорогой, экспериментируя с клеенкой в качестве основы, с плотностью наложения краски, с новыми образами, более мрачными и фантасмагорическими, чем знаменитые его «Приветы из Сочи», красавицы и райские кущи советского образца. Период, когда творчество Аркадия Петрова было в русле семидесятнической рефлексии с карнавальным духом, ярко выраженной также в искусстве Татьяны Назаренко и Натальи Нестеровой, окончился в тот самый момент, когда скончался питавший его миф и репродукторы на столбах запнулись: что петь дальше?
|
|

[ № 7, 2006 г. ]
Миндаугас Карбаускис: «Я думаю о том, как уйти из театра»
[персона грата]
Александр Колбовский: Пастернака не смотрели
[обозреватель-тв]
Александр Кабаков: Задние мысли
[нон-стоп]
 Владислав Отрошенко: Старт
[проза]
Владислав Отрошенко: Старт
[проза]
«…Первый раз в жизни Найденчик был пьяный. Они сидели с Цезарем в деревянной ракете. Как два космонавта. Одинокие и внимательные друг к другу, как два космонавта. Цезарь запрокидывал голову и, прикрывая глаза, отпивал из бутылки. Бутылка была холодная, с бордовой лоснящейся этикеткой. На ней было написано янтарными буквами: «Мадера». Цезарь протирал горлышко рукавицей, чтоб было сухим, и бережно передавал бутылку Найденчику. Найденчик, отпивая вино, не прикрывал глаза. Он смотрел в иллюминатор. Или на Цезаря. Тот заботливо чистил мандарин для Найденчика. И Найденчику нравилась эта атмосфера дружественности и заботливости, наполнявшая всю ракету. Вокруг был тихий космос. Вокруг была зима»
Глеб Шульпяков: Исправленному верить
[обозреватель-книги]
 Евгений Рейн: Последний очерк бытия
[терра-поэзия]
Евгений Рейн: Последний очерк бытия
[терра-поэзия]
«Что ж, товарищ, переждем погоду,
Повернем в замке холодный ключ,
Мы любили воду и свободу,
Верное светило из-за туч».
Юрий Глебов: Остров миллионеров
[старый город]
Дмитрий Смолев: Круговорот сокровищ
[обозреватель-арт]
 Ольга Аверьянова: Тактика визуального шока
[волшебный фонарь]
Ольга Аверьянова: Тактика визуального шока
[волшебный фонарь]
«Сам он себя фотографом не считал, но нельзя не вспомнить слова Ирвинга Пенна, его ученика, а потом и помощника: „Все фотографы, знают они об этом или нет, – ученики Бродовича“. Избегая публичности, он любил оставаться в тени и отказывался от почетного звания учителя, именуя себя „открывалкой“ – то есть подразумевая, что всего-навсего откупоривает воображение ученика, словно бутылку с кока-колой»
Светлана Бережная – Санджар Янышев: Спиной к публике
[table-talk]
Григорий Потемкин: Визит к Аполлону
[бумажный змей]
Ольга Шумяцкая: Фильм, где все неправильно и совершенно
[киноностальгия]
 Александр Ревич: «Из детства я сразу перешел в зрелость»
[маэстро]
Александр Ревич: «Из детства я сразу перешел в зрелость»
[маэстро]
«Жизнь фантастична. Она не требует композиции. Она не требует доказательств. В ней могут случиться невероятные вещи. Но все неправдоподобное в жизни может стать правдоподобным в искусстве. Просто для этого нужна мера. Пример: я ведь в плену был два раза и дважды бежал. Это немножко неправдоподобно, хаотично, да? Но это была жизнь»
Артем Варгафтик: Ад и рай Альфреда Шнитке
[репетиция оркестра]
Маша Шахова: «Милюся-Кукуся, променад»
[подмосковные вечера]
Ольга Шумяцкая: Жертве не больно
[обозреватель-кино]
Яна Гузалина: Артек, Аю-Даг, Абсолют
[наше все]
Сюжет от Войцеховского: Поезд Марсель–Тулон
Ксения Басилашвили: «Папа ездил в метро в берете с пером»
[семейные сцены]
Святослав Бирюлин: Порядок в хаосе размеров
[обозреватель-музыка]
Соломон Волков: «Всё решают гены»
[дым отечества]
 Игорь Чувилин: Шахтерское танго
[артотека]
Игорь Чувилин: Шахтерское танго
[артотека]
«Перед его первой персональной выставкой в зале на улице Вавилова, по воспоминаниям автора, приходили „какие-то тетки с авоськами“ (они же – представительницы инстанций), которые отбирали работы. „А вот эта обнаженная какая-то наглая“, – говорили тетки».
Святослав Бирюлин: Гений, прожигающий дыры в ушах
[музей звука]
Виталий Вульф, Серафима Чеботарь: Идеальная актриса
[театральный роман]
Юрий Рост: Десятый день
[окно роста]
Эдуард Назаров: Автобиография (как бы)
Предисловие Юрия Норштейна
[норштейн-студия]
Николай Ямской: Угар под палубой
[гастроном]
Григорий Заславский: Премьеры навырост
[обозреватель-театр]
Марк Водовозов: Ника улетела
[финиш!]
Виктор Куллэ: Глупый дворец
[дом с привидениями]
Александр Васильев: Английский меланж
[винтаж]
Лидия Оболенская: Подкаблучники
[комильфо]
Пелем Г. Вудхауз: Веселящий газ. Роман
[классика прошлого века]
|
|

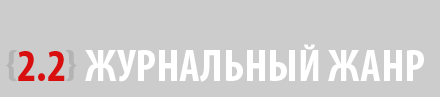











 Игорь Чувилин: Шахтерское танго
[артотека]
Игорь Чувилин: Шахтерское танго
[артотека]