|
Владислав Отрошенко: Старт

Первый раз в жизни Найденчик был пьяный. Они сидели с Цезарем в деревянной ракете. Как два космонавта. Одинокие и внимательные друг к другу, как два космонавта. Цезарь запрокидывал голову и, прикрывая глаза, отпивал из бутылки. Бутылка была холодная, с бордовой лоснящейся этикеткой. На ней было написано янтарными буквами: «Мадера». Цезарь протирал горлышко рукавицей, чтоб было сухим, и бережно передавал бутылку Найденчику. Найденчик, отпивая вино, не прикрывал глаза. Он смотрел в иллюминатор. Или на Цезаря. Тот заботливо чистил мандарин для Найденчика. И Найденчику нравилась эта атмосфера дружественности и заботливости, наполнявшая всю ракету. Вокруг был тихий космос. Вокруг была зима.
Но не звонкая, не снежная, какую Найденчик любил, а такая, от которой блуждала под ключицами боль. Таял снег. Наваливший было в конце ноября, он медленно таял весь декабрь. Таял и таял. Превращался в воду. И теперь эта серая водица мутно блестела повсюду. И повсюду под ней был темный и твердый лед. Никто даже не хотел ходить по такой поверхности. А если и появлялась – на льду, на воде – человеческая фигура (иногда Найденчик видел в иллюминатор чью-нибудь далекую фигуру), то она беспрестанно падала. Поднималась и снова падала.
– Не будем вылазить из ракеты, – сказал Найденчик. – У нас есть всё. Мандарины, вино, сигареты.
Мандаринами у Найденчика были набиты все карманы. Он и Цезарю туго набил ими карманы. Но сигарет в смятой пачке, на которой были нарисованы звезды Вселенной и голова собаки, оставалось только две. Вина в бутылке было на четыре глотка. Два – Цезарю, два – Найденчику. И все же Цезарь согласился.
– Не будем вылазить, – подтвердил он. – Никуда не пойдем.
Доски, из которых был сделан «Восток-1» (такова была надпись на корпусе ракеты), пахли гнилью. Воздух за иллюминатором был сырой и тусклый. А внутри Найденчика – в легких, в кишках – было тепло и весело. Там вращался, то поднимаясь вверх, то опускаясь вниз, жаркий ком. И хотя Найденчик не видел его глазами, а только чувствовал внутренностями, он знал, как выглядит этот подвижный ком. Он весь состоял из тонких иголок. Они были желтого, солнечного цвета. От их густых уколов – когда ком поднимался вверх – у Найденчика немели скулы, немели уши и лоб. И это расползающееся онемение забавляло его. Оно мешало ему говорить, мешало слышать. Он с трудом узнавал свой голос. Слова звучали на большом расстоянии от головы и доносились не сразу до его слуха – так, что Найденчик не мог понять, сию ли минуту он сказал Цезарю: «Не будем вылазить из ракеты», – или произнес эти слова давно.
Наверное, очень давно, потому что Цезаря теперь не было рядом. Он был далеко. Так далеко, что Найденчик, глядя в иллюминатор, не мог установить, быстро или медленно движется Цезарь. Было только ясно, что в ракету он не вернется.
Найденчик не беспокоился о Цезаре – о том, что он затеряется в сумрачном зимнем космосе. Он знал, что и внутри Цезаря светит сейчас веселое колючее солнце. Оно ведет его правильной дорогой. И Цезарь на этой дороге не падает, не шатается. Ему привычно быть пьяным. Он всегда пил вино. Он пил его даже в школе, прямо на уроке. Спокойно вытаскивал из-под парты откупоренную бутылку и звучно высасывал из нее, двигая кадыком, темную жидкость. Если бы это сделал Найденчик, то его убили бы, растерзали, отвели бы к Курочке, и Курочка, огромная, в черном платье, покрытом пылью, кричала бы, сверкая глазами, что Найденчик превратился в мерзавца и негодяя и что ему не место в школе, а место в тюрьме.
Ракета полетела.
Она сначала качнулась в сторону – так сильно, что Найденчик едва не вывалился в овальный проем, от которого тянулась вниз, наружу, к ледяной планете, железная лесенка, выкрашенная серебрянкой. Потом Найденчик медленно сполз на пол, прижавшись спиной к вогнутой стене. И ракета полетела.
Найденчик видел перед собой два светящихся круга. Он знал, что один из них был иллюминатором, другой – его призраком. Но различить их было невозможно. Такие же свойства приобрели перчатки, валявшиеся между его ног, и сами ноги, раскинутые по влажному полу. Найденчик не пытался искать на полу окурки. Ему не хотелось курить. Он кое-как направлял ракету в дом бабки Евы. Потому что ни в какие другие места мира он не мог полететь в таком удивительном состоянии. Ни в театр к матери за плоским ключиком от ее квартиры. Ни в магазин к отцу за увесистой связкой ключей от его многодверного жилища. Ни в степное пространство к деду Алексею и бабке Софье, чтоб без всяких ключей очутиться в их станичных покоях, вызвав стуком в ворота лай собаки и топот прислуги. Ни – тем более – к тетке Марине. Именно к ней Найденчик и должен был бы явиться.
Он должен был сразу же после уроков сесть на автобус номер одиннадцать. Должен был выйти на пятой остановке. И ровно в два часа дня – с дневником, без единой тройки за четверть – ждать Марину у входа в штаб гарнизона.
Так она сказала. Так приказала.
Но Найденчик не выполнил приказ. Троек было четыре. Ракета летела без остановок. И который был час на борту, у входа в штаб гарнизона и повсюду на свете, Найденчик не знал. Он был занят полетом. Ему не весело было думать теперь о школе, о грозной Курочке, о Марине. Он даже не мог подумать о собственной голове, чтоб ощутить ее костяные границы. Ракета летела. И Найденчику некому было сказать: «Я кедр… чувствую перегрузку… вибрация…» Связи в ракете не было. Ни с кем. Никакой.
2
Космонавтом Найденчик стал в то время, когда ракет было мало. Одна – деревянная, одна – железная и две – из дикого степного камня. Где они находились и с какой вдохновенностью их строила Курочка, чтобы выказать преданность космосу, который она любила всем сердцем, Найденчик еще не знал.
Он тогда облетал звезду в первый раз, притянутый к планете неистощимой силой, и на этом витке ни директрисы Курочки З.Т., ни ее ракет, на которых читались с большого расстояния имена первообразных кораблей, возносившихся за пределы зримых небес, еще не было в космосе Найденчика.
Не было строгих приказов лейтенанта войск связи Марины Грековой и выщербленного ключа от ее квартиры. Не было Цезаря. Не было школы.
Был только огромный и сумрачный дом бабки Евы Найденовой.
И были в нем голоса.
Они звучали то совсем рядом, то приносились откуда-то из непроглядных пространств, из которых ночами на сонный крик Найденчика иногда выкатывалась на кресле-коляске, быстро вращая руками бесшумные колеса, старшая сестра деда Прошки Африча, сухоногая Снежана, и куда уходил бродить от пьяной обиды сам дед Прошка, когда бабка Ева вдруг становилась злой, вспомнив, каким красивым, гордым и умным был ее первый муж, родной дед Найденчика, Александр, и какой безмозглый дурак, какой малахольный пьяница сменил покойника в этом доме, свалившись однажды – «со всей своей блядской семейкой! с бесчисленными уродами и инвалидами!» – на ее, тогда еще юную, голову.
– О, посмотрите, посмотрите, святые угодники, на этого ехидного идиота! – грозно кричала бабка Ева в то далекое, неведомое Найденчику пространство, где дед Прошка бесцельно катал туда-сюда Снежану, сбивая коляской стулья и этажерки. – Посмотрите! Ему тоже есть чем гордиться! Своими залитыми глазами, да тем что он пять минут… в четырнадцатом годе, мамочка, – изображала Ева пьяный голос Прошки, – разговаривал по телефону с сербским королем! С таким же полоумным чурбаном, как сам!
– Курва! Курва! – возражал дед Прошка, если глаза его оказывались не так уж и сильно залитыми, как чудилось Еве. Тогда он объявлял ей из гулких залов – не пьяным, а тем особенным голосом, в котором звучали ноты еще не утраченной, но уже пошатнувшейся трезвости, – что он никому не позволит называть полоумным чурбаном короля Петра I Карагеоргиевича, которому он служил, которого он любил и для которого летал по небу на «Ньюпорах» и «Моранах», как настоящий черт!
Но чаще всего случалось, что никаких возражений не слышалось с той половины дома, где обитали Афричи. Оттуда доносился только раскатистый грохот, сопровождавшийся разнообразными звуками – скрежетом, звоном, шипением. Оттуда дотягивались до кровати Найденчика искривленные тени и долетали порывы ветра, завывавшего на невидимых просторах.
Найденчика не пугали ни тени, ни грохот, ни далекий вой ветра, ни злые речи, уносившиеся в незнакомые пределы и будившие там летучее эхо. То было время, когда он не знал никаких других звуков, кроме тех, которые наполняли дом бабки Евы. Как бы они ни звучали – отрывисто или протяжно, пронзительно или глухо, – звуки были для него одинаково новыми и бессмысленными, а подвижные тени, какие бы формы они ни принимали, то распластываясь по стенам, то загибаясь на потолок, представлялись ему не более безобразными, чем предметы, охваченные неистощимым оцепенением.
Среди звуков, теней и предметов Найденчику еще не всегда удавалось заприметить того, кто их видит и слышит. Он еще не всегда ощущал, что видение и слышание принадлежат ему, его полусонному существу, медленно привыкавшему к жизни в минуты нечаянного бодрствования. Видение и слышание были повсюду – в складках дырявого пледа, свисавшего на пол с кресла-качалки, в резных виноградных листьях, покрывавших громадное брюхо комода, в скоплении разноцветных точек на ткани бескрайнего гобелена, раскинувшегося по стене, возле которой стояла кровать Найденчика. Видели и слышали гнутые стулья, пузатые ромбы на стеганой спинке кожаного дивана и лоснящийся ворс ковровой дрожки, терявшейся в мглистом воздухе за широкой аркой, где начинались владения Афричей. Все это было явью, прочной и чужеродной, не нуждавшейся ни в глазах, ни в ушах Найденчика, – не нуждавшейся в самом его существе, которое было чем-то таким, что только с недавних пор приобрело устойчивость, отделившись от слитного, расплывчатого мира, в котором Найденчик поначалу различал лишь свои собственные пухлые руки, удивлявшие его тем, что они соглашались шевелиться в воздухе по его желанию, да чьи-то огромные лица, то и дело ласково проступавшие из светящегося серого сумрака.
Позднее, когда явь все чаще и чаще стала вторгаться в бесчувственный сон Найденчика, служивший ему заменой утраченного небытия, когда необозримое пространство комнаты, таившее в себе множество неясных образов, стало все дольше и дольше удерживаться перед его глазами, он научился угадывать эти лица, разнообразно улыбавшиеся над его кроватью. Найденчик и сам теперь улыбался оттого, что ему удавалось отличить лицо бабки Евы, овальное, гладкое, с короткими светлыми бровями, от смуглого и костистого лица деда Прошки Африча, которое резко сужалось ниже широкого лба, нависавшего над тесными глазницами. Точно такими же – узкими ниже лба – были лица всех Афричей, но Найденчик и их уже отличал друг от друга. Уже не одной лишь Снежане он показывал тонкие заостренные десны, встречая ее дружелюбной улыбкой. Узнавал он уже и Людмилу, младшую сестру деда Прошки, которая вместе с порывами ветра, приносившими из комнат Афричей клочья бумаги и пыль, иногда врывалась на найденовскую половину дома, извиваясь всем своим тощим и непослушным телом, измученным пляской святого Витта. Узнавал родительницу Афричей – горбатую Загорку, которая время от времени, точно паук из укрытия, выбегала из темного арочного проема, двигая за поясницей острыми локтями. И все же это счастливое узнавание было зыбким и скоротечным. Оно не могло убедить Найденчика в надежной неисчезновенности мира. Слишком робко и беспорядочно озаряло оно его новорожденный ум, чтобы Найденчик мог ясно ощутить непрерывность своего существования. Мир поминутно ускользал из его сознания, оставляя в нем лишь случайные осколки, слепо захваченные в плен беспомощной памятью, которая чудом проносила сквозь бодрствование и сон то крыло фаянсового орла, то лапу бронзовой люстры, то смуглые уши Загорки, подпираемые ключицами. Жизнь его состояла из собрания обособленных мгновений, каждое из которых словно впервые извлекало Найденчика из небытия, ничего не сообщая ему о событиях предшествующих и последующих. Мгновения эти вспыхивали и угасали в неистребимой пустоте, и память Найденчика была не в силах соединить их в слитную длительность.
Не ведая о том, что таилось за пределами настоящего, он вдруг обнаруживал себя на руках бабки Евы, в тени ее неоглядного подбородка, который затмевал электрический свет, лившийся с потолка. Он видел рубин, качавшийся в воздухе ниже мясистого уха Евы. Чувствовал, как Ева поворачивает из стороны в сторону свое теплое и громадное туловище. Вместе с ним поворачивался потолок, показывая Найденчику то один, то другой угол. Найденчику хотелось смотреть на выпуклую полоску, тянувшуюся из угла в угол по краю потолка; ему хотелось видеть эту полоску долго и ясно, потому что он нечаянно различил, что она состоит из кругов и квадратов. За квадратом следовал круг, за кругом – квадрат. Найденчика радовал этот порядок. Но полоска то и дело пропадала. Полоску пугала песня, которую пела Ева:
У Загорки, у Загорки
На спине большая горка,
А с той горки едет кот,
Баю-баюшки-баю…
На салазках едет кот,
Колотушку он везет.
Баю-баюшки-баю…
От звуков песни потолок превращался в серый искрящийся шар, который накатывался на Найденчика, давил его своей мягкой и одновременно колючей поверхностью, вбирал в себя и разлетался, не оставляя в темном вместительном пространстве ничего, что могло бы ощутить переход к другому мгновению – к другому настоящему, где Найденчик видел телефон.
Черный, угловатый, с вогнутыми боками, телефон находился очень близко. Найденчик старался дотянуться до него руками, чтобы столкнуть с его макушки массивную трубку. Но чьи-то твердые пальцы, сомкнувшиеся у него на груди, удерживали его; чьи-то жесткие колени шевелились под ним, переваливали его с боку на бок, мешая сделать точные движения. Найденчик запрокидывал лицо, чтоб распознать того, кому принадлежат колени и пальцы, и в ту же секунду раздавался громкий звонок. За ним второй, третий. Найденчик замечал, что к телефону тянется рука бабки Евы. Но другая рука – та, что удерживала Найденчика, – вдруг отделяла от телефона трубку и быстро уносила ее вверх. Найденчик видел провод, качавшийся перед его глазами, и слышал голос над своей головой:
– Здесь Прохор Африч, ваше величество! Капитан Прохор Африч! Воздушная разведка!
– Воздушная сволочь! – успевал еще услышать Найденчик, прежде чем события яви переставали оказывать на него оживляющее воздействие. Он больше не участвовал в них ни зрением, ни слухом, ни движениями воли, потому что всматривался в раздробленное сияние за стеклянной дверцей посудной горки. Туда и перемещалось, слившись с бесцельным взглядом, все его существо. Там оно и рассеивалось – исчезало вместе с самим сиянием до зарождения нового космоса.
3
Ракета летела плохо.
Найденчик не помнил, какие корабли остались стоять внизу, на Земле, на севере школьной усадьбы. Там был бетонный «Восход-1» и был кирпичный «Союз-12». И строился «Союз-13» из мрамора и разноцветных стекол.
Его ракета летела плохо.
К расщеплению зримых образов и прочному онемению на поверхности головы прибавилось то, что вовсе не способствовало нормальному полету. Глаза теперь нельзя было держать открытыми. Но нельзя было их и закрыть. Ракета наклонялась и в том и в другом случае. Она наклонялась и наклонялась, не пытаясь решительно кувыркнуться. Она бесконечно возобновляла одно и то же движение, не заканчивая его и не возвращаясь в прежнее положение. Так она летела. И Найденчику было непросто приложить силу мысли к ее полету. Он не держал глаза открытыми; и не держал их закрытыми. Он старательно щурился, чтобы заставить ракету лететь так, как надо, – через ясный эфир, наполненный звездами, в дом бабки Евы. Быстро и ровно.
Но ракета не подчинялась.
«Восток-1» был кораблем очень старым. Он был кораблем никуда не годным. Управлять им было невозможно. Он летел, как летел. Его нес над планетой космический ветер, проникавший даже в кабину сквозь прорехи в дощатых стенах.
|
|

[ № 7, 2006 г. ]
Миндаугас Карбаускис: «Я думаю о том, как уйти из театра»
[персона грата]
Александр Колбовский: Пастернака не смотрели
[обозреватель-тв]
Александр Кабаков: Задние мысли
[нон-стоп]
 Владислав Отрошенко: Старт
[проза]
Владислав Отрошенко: Старт
[проза]
«…Первый раз в жизни Найденчик был пьяный. Они сидели с Цезарем в деревянной ракете. Как два космонавта. Одинокие и внимательные друг к другу, как два космонавта. Цезарь запрокидывал голову и, прикрывая глаза, отпивал из бутылки. Бутылка была холодная, с бордовой лоснящейся этикеткой. На ней было написано янтарными буквами: «Мадера». Цезарь протирал горлышко рукавицей, чтоб было сухим, и бережно передавал бутылку Найденчику. Найденчик, отпивая вино, не прикрывал глаза. Он смотрел в иллюминатор. Или на Цезаря. Тот заботливо чистил мандарин для Найденчика. И Найденчику нравилась эта атмосфера дружественности и заботливости, наполнявшая всю ракету. Вокруг был тихий космос. Вокруг была зима»
Глеб Шульпяков: Исправленному верить
[обозреватель-книги]
 Евгений Рейн: Последний очерк бытия
[терра-поэзия]
Евгений Рейн: Последний очерк бытия
[терра-поэзия]
«Что ж, товарищ, переждем погоду,
Повернем в замке холодный ключ,
Мы любили воду и свободу,
Верное светило из-за туч».
Юрий Глебов: Остров миллионеров
[старый город]
Дмитрий Смолев: Круговорот сокровищ
[обозреватель-арт]
 Ольга Аверьянова: Тактика визуального шока
[волшебный фонарь]
Ольга Аверьянова: Тактика визуального шока
[волшебный фонарь]
«Сам он себя фотографом не считал, но нельзя не вспомнить слова Ирвинга Пенна, его ученика, а потом и помощника: „Все фотографы, знают они об этом или нет, – ученики Бродовича“. Избегая публичности, он любил оставаться в тени и отказывался от почетного звания учителя, именуя себя „открывалкой“ – то есть подразумевая, что всего-навсего откупоривает воображение ученика, словно бутылку с кока-колой»
Светлана Бережная – Санджар Янышев: Спиной к публике
[table-talk]
Григорий Потемкин: Визит к Аполлону
[бумажный змей]
Ольга Шумяцкая: Фильм, где все неправильно и совершенно
[киноностальгия]
 Александр Ревич: «Из детства я сразу перешел в зрелость»
[маэстро]
Александр Ревич: «Из детства я сразу перешел в зрелость»
[маэстро]
«Жизнь фантастична. Она не требует композиции. Она не требует доказательств. В ней могут случиться невероятные вещи. Но все неправдоподобное в жизни может стать правдоподобным в искусстве. Просто для этого нужна мера. Пример: я ведь в плену был два раза и дважды бежал. Это немножко неправдоподобно, хаотично, да? Но это была жизнь»
Артем Варгафтик: Ад и рай Альфреда Шнитке
[репетиция оркестра]
Маша Шахова: «Милюся-Кукуся, променад»
[подмосковные вечера]
Ольга Шумяцкая: Жертве не больно
[обозреватель-кино]
Яна Гузалина: Артек, Аю-Даг, Абсолют
[наше все]
Сюжет от Войцеховского: Поезд Марсель–Тулон
Ксения Басилашвили: «Папа ездил в метро в берете с пером»
[семейные сцены]
Святослав Бирюлин: Порядок в хаосе размеров
[обозреватель-музыка]
Соломон Волков: «Всё решают гены»
[дым отечества]
 Игорь Чувилин: Шахтерское танго
[артотека]
Игорь Чувилин: Шахтерское танго
[артотека]
«Перед его первой персональной выставкой в зале на улице Вавилова, по воспоминаниям автора, приходили „какие-то тетки с авоськами“ (они же – представительницы инстанций), которые отбирали работы. „А вот эта обнаженная какая-то наглая“, – говорили тетки».
Святослав Бирюлин: Гений, прожигающий дыры в ушах
[музей звука]
Виталий Вульф, Серафима Чеботарь: Идеальная актриса
[театральный роман]
Юрий Рост: Десятый день
[окно роста]
Эдуард Назаров: Автобиография (как бы)
Предисловие Юрия Норштейна
[норштейн-студия]
Николай Ямской: Угар под палубой
[гастроном]
Григорий Заславский: Премьеры навырост
[обозреватель-театр]
Марк Водовозов: Ника улетела
[финиш!]
Виктор Куллэ: Глупый дворец
[дом с привидениями]
Александр Васильев: Английский меланж
[винтаж]
Лидия Оболенская: Подкаблучники
[комильфо]
Пелем Г. Вудхауз: Веселящий газ. Роман
[классика прошлого века]
|
|

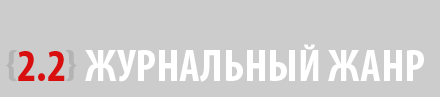



 Владислав Отрошенко: Старт
[проза]
Владислав Отрошенко: Старт
[проза]


