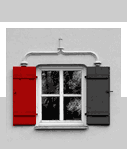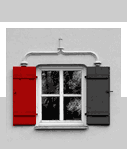Марсель Пруст
|
Марсель ПРУСТ. О чтении
[отрывок]
Нет, быть может, дней в нашем детстве, прожитых с такой полнотой, как те, когда мы словно бы и не жили, – это дни, проведённые с любимой книгой. Всё, чем, казалось, они были заполнены для других и что мы отвергали как низменную помеху божественной усладе: игра, ради которой тревожили нас на самом интересном месте друг, пчела или луч солнца, досаждавшие нам, заставляя отрываться от страницы или пересесть, полдник, который нас принуждали взять с собой и который мы оставляли нетронутым возле себя на скамейке, в то время как солнце над нами грело всё слабее в синем небе, обед, из-за которого приходилось вернуться домой и за которым мы только и думали, как бы он поскорей окончился, чтобы подняться к себе и дочитать прерванную главу, – всё то, в чём чтение словно бы должно было помешать нам ощутить что-либо, кроме докуки, оно в нас, напротив, запечатлевало как воспоминание, настолько сладостное (настолько более драгоценное в нашем сегодняшнем понимании, чем то, что мы тогда читали с такой любовью), что, если нам случается ещё сейчас перелистывать те давнишние книги, они для нас только календари, которые мы сохранили от минувших дней, и мы ищем на их страницах отражения домов и прудов, не существующих ныне.
Кто не вспомнит, подобно мне, этого чтения во время каникул, для которого мы одно за другим искали убежище во все часы дня, достаточно мирные и неприкосновенные, чтобы можно было уединиться с книгой. Утром, возвращаясь из парка, когда все уходили на прогулку, я проскальзывал в столовую, куда до ещё далёкого часа завтрака могла войти разве что старая Фелиси, относительно молчаливая, и где меня ждало только общество тех, кто весьма почтителен к чтению, говорит, не требуя ответа, те, чья ласковая болтовня, лишённая смысла, не оспаривает, подобно человеческой речи, слова книги: разрисованные тарелки, висящие на стене, календарь со свежесорванным вчерашним листком, стенные часы и огонь. Я устраивался на стуле, у огонька, горящего в камине, о котором рано поднимающийся и любящий повозиться в саду дядя скажет за завтраком: «Вот это приятно! Немножко тепла никому не повредит. Уверяю вас, в огороде в шесть часов изрядно холодно. И подумать только, что через неделю пасха!» До завтрака, который – увы! – положит конец чтению, оставалось ещё долгих два часа. <…> К несчастью, кухарка приходила накрывать на стол задолго до завтрака; если бы она хоть накрывала молча! Но она считала своим долгом сказать: «Вам так неудобно; может, придвинуть вам стол?» И только для того, чтобы ответить: «Нет, спасибо», – приходилось сразу остановиться и извлечь из глубин свой голос, который, и при сомкнутых губах, беззвучно, бегло повторял слова, прочитанные глазами; нужно было остановить этот голос, исторгнуть его из себя для того, чтобы вежливо сказать: «Нет, спасибо», – придать ему видимость обычной жизни, интонацию ответа, которую он утратил. Время шло; часто задолго до завтрака начинали входить в столовую те, кто, почувствовав усталость, сократили прогулку, …или те, кто не выходил этим утром, так как «им нужно было писать». Они, правда, говорили: «Не хочу тебя беспокоить», – но тут же подходили к камину, смотрели на часы, объявляли, что не прочь позавтракать. <…> Некоторые, не желая ждать, заранее усаживались за стол, на свои места. Это было ужасно, так как подавало дурной пример другим приходящим, могло навести на мысль, что уже полдень, и побудить моих родителей слишком рано произнести роковые слова: «Ну, закрой книгу, пора завтракать». Всё было готово, стол накрыт, на скатерти не хватало только того, что приносили лишь в конце завтрака, – стеклянного аппарата, трубчатого и сложного (совсем как физический прибор, если бы только тот хорошо пахнул), в котором дядя – огородник и повар – сам варил кофе за столом; так приятно было видеть поднимающееся в стеклянном колпаке внезапное кипение, оставлявшее на запотевших внутренних стенках ароматный коричневый осадок; и ещё не хватало сливок и клубники – всё тот же дядя смешивал их во всегда одинаковых пропорциях, останавливаясь, с опытностью колориста и озарением гурмана, точно на том розовом цвете, который требовался.
Каким длинным казался завтрак! Моя двоюродная бабушка едва прикасалась к кушаньям, чтобы высказать о них своё мнение с кротостью, полной терпения, но не принимающей возражений. О романе, о стихах – вещах, в которых она хорошо разбиралась, – она с женской скромностью предоставляла судить людям более сведущим. Она считала, что это зыбкая область прихоти, где вкус одного человека не может установить истину. Но о делах, правила и принципы которых были ей преподаны её матерью, – о способе готовить определённые блюда, играть сонаты Бетховена и любезно принимать гостей, – она твёрдо знала, что правильно представляет себе, в чём тут заключается совершенство, и всегда безошибочно определит, насколько приближаются к нему другие люди.
…После завтрака я тотчас возвращался к чтению, особенно если день был жарким и каждый поднимался к себе, что позволяло мне немедленно отправиться по лестничке с коротенькими маршами в мою комнату на втором этаже, столь низком, что, вылезая в окно, даже ребёнок мог выпрыгнуть на улицу. Я закрывал окно, не успевая уклониться от приветствия оружейника из дома напротив, который под предлогом, что ему надо опустить навесы, выходил каждый день выкурить трубку у своей двери и здоровался с прохожими, которые иногда останавливались поболтать.
…Не успевал я немного почитать у себя в комнате, как уже надо было идти в парк, за километр от деревни. Но после обязательной игры я сокращал конец полдника, принесённого в корзинках и розданного детям на берегу реки, на траве, куда была положена книга, которую пока было запрещено брать. Немного дальше, в довольно запущенных и таинственных глубинах парка, река переставала быть выпрямленной, искусственной водой, покрытой лебедями и окаймлённой аллеями, где улыбались статуи; по временам, плещась карпами, она торопливо вырывалась за ограду парка, становилась рекой в географическом смысле слова – рекой, которая должна была иметь название, – и вскоре разливалась… среди трав, где дремали быки, затопляла лютики, среди подобия лугов, почти уже превращённых ею в болота, которые примыкали с одной стороны к деревне рядом бесформенных башен, остатков, как говорили, средних веков, а с другой соединялись дорогами, идущими в гору и поросшими шиповником и боярышником, с «природой», которая простиралась в бесконечность, с деревнями, имевшими другие названия, с неведомым. Я оставлял других полдничать в нижней части парка, на лебяжьем берегу, и поднимался бегом в лабиринт, в буковые заросли, где садился, надёжно скрытый, прислоняясь к подстриженному орешнику, глядя на посадки спаржи, на грядки земляники, на бассейн, где иногда лошади качали воду, ходя по кругу, на белые ворота, которые были «концом верхнего парка», и за ними на поля васильков и маков. Здесь, в буковых зарослях, тишина была глубока, риск быть найденным – ничтожен, чувство безопасности – особенно сладостно из-за удалённости криков, которыми снизу тщетно звали меня те, кто искал, иногда даже приближались, подымались на ближние откосы, разыскивали повсюду, затем возвращались, так и не найдя; тогда наступало безмолвие; только время от времени золотой звук колокола, который вдалеке, за полями, казалось, звенел по ту сторону голубого неба, мог бы известить меня о движении часов; но, удивлённый его мягкостью и взволнованный тишиной, ещё более глубокой, очищенной от последних звуков, которая за ним следовала, я никогда не был уверен в числе ударов. Это не были гремящие колокола, которые слышишь, возвращаясь в деревню, когда приближаешься к церкви, вблизи снова обретающей высокий и жёсткий облик, поднимающей в синь вечера свой черепичный капюшон, испещрённый воронами, – колокола, посылающие раскаты звона на площадь «во имя благ земных». Сюда, в дальний конец парка, они доходили слабыми и мягкими и обращались не ко мне, а ко всему краю, ко всем деревням, к одиноким крестьянам на полях, они не заставляли меня подымать голову, проходили подле меня, унося время вдаль, не замечая меня, не зная и не тревожа.
Иногда дома, в постели, долгое время спустя после обеда, последние часы вечера также были прибежищем для моего чтения, но только в те дни, когда я доходил до последних глав, когда оставалось прочесть совсем немного, чтобы закончить книгу. Тогда, идя на риск наказания, если буду разоблачён, и бессонницы, которая после чтения книги может затянуться на всю ночь, я, едва ложились родители, снова зажигал свечу, тогда как на улице совсем рядом, между домом оружейника и почтой, погружёнными в тишину, было полно звёзд на тёмном и всё же синем небе, а налево, на поднимающейся вверх улочке, там, где начинались её повороты и крутой подъём, угадывалась бодрствующая чудовищная и тёмная абсида церкви, чьи скульптуры ночью не спали, церкви деревенской и, однако, исторической, – магического места пребывания господа бога, освящённой просфоры, многоцветных святых и дам из соседних замков, которые по праздникам, проезжая через рынок, вызывали кудахтанье кур и любопытство кумушек и прибывали к мессе «на собственных выездах»…
Но вот последняя страница прочитана, книга окончена. Надо было прекратить бешеный бег глаз и голоса, что беззвучно сопровождал чтение, останавливаясь только, чтобы перевести дыхание в глубоком вздохе. Тогда, подчиняя бурям, бушевавшим во мне слишком долго, чтобы сразу успокоиться, другие мои движения, я вставал, принимался шагать вдоль кровати, всё ещё не отрывая глаз от какой-то точки, которую напрасно искали бы в комнате или на улице, потому что она была только в отдалении души, в той дали, что не измеряется метрами и верстами, как обычная, и однако её не спутаешь с другими далями, её сразу узнаешь, заглянув в «отсутствующие» глаза того, «чьи мысли далеко». Как же так? Эта книга была всего лишь книгой? Этим созданиям мы отдали больше внимания и нежности, чем людям в жизни, не всегда смея признаться себе, до какой степени их любим, и, если родители заставали нас во время чтения и нам казалось, будто они посмеиваются над нашей взволнованностью, мы даже закрывали книгу с напускным равнодушием или с притворной скукой, из-за этих людей мы задыхались и рыдали, – а теперь нам никогда больше их не видеть, больше ничего не узнать о них? На нескольких страницах жестокого эпилога автор уже позаботился «расставить их по местам» с безразличием, непостижимым для того, кто знал, как пристально он за ними следил до того. Нам были рассказаны их занятия час за часом, и вдруг: «Через двадцать лет после этих событий можно было встретить на улицах Фужера еще прямого старика» и т.д. А женитьба, сладчайшей возможностью которой нас манили на протяжении двух томов, то пугая нас, то радуя возникновением препятствий, а затем их устранением; теперь из одной случайной фразы второстепенного персонажа, из этого поразительного эпилога, написанного личностью, словно бы взирающей с небесных высот, совершенно безразличной к нашим переживаниям, которая подменила собою автора, нам становится известно, что свадьба отпразднована, и мы не узнаем даже, когда. Так хотелось, чтобы у книги было продолжение, а если это невозможно, то – получить другие сведения о всех героях, узнать теперь что-нибудь об их жизни, употребить нашу жизнь на занятия, не совсем чуждые любви, внушённой ими, любви, предмета которой мы внезапно лишились, хотелось бы знать, что не напрасно мы полюбили на час существа, которые завтра станут лишь именем на забытой странице книги, не связанной с жизнью, книги, в оценке которой мы сильно ошибались, потому что её жребий здесь, на земле, – мы понимали теперь, и наши родители объясняли нам, если требовалось, в одной пренебрежительной фразе, – состоял вовсе не в том, чтобы вобрать в себя весь мир и судьбу, но в том, чтобы занять очень узкое место в книжном шкафу нотариуса между дешёвой роскошью «Иллюстрированного журнала мод» и «Географией Эры и Луары».
|