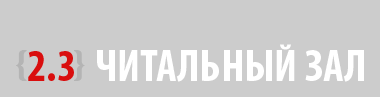Читателям  Литературные имена
Литературные имена  Ф. Солянов
Ф. Солянов  Житие колокольного литца
Житие колокольного литца
Фред СОЛЯНОВ
Житие колокольного литца
| |
Рассказ
|
| |
1
Алексей Михайлович был последним царем, не брезговавшим мясом дикой рыси, что цветом схоже с шедшим на подводку зеркал английским оловом. Однако как человек тишайшего нрава он более предпочитал мясо вареного рака, по белизне не уступавшее пухлым перстам супруги ближнего боярина Ивана Мусина-Пушкина. Помнил, как в младые лета подцепил оком пунцового рака, лежавшего на дне подаренного князем Юрием Ромодановским деревянного блюдца с золотою обводкою. Речной дурень подъял клешни выспрь, будто надумал взлететь. Но дивно было не то, что вареный усатик решил вознестись после смерти, а что хвост у него был вытянут напрямки. В заживо сваренном раке хвост должен быть загнут, как у акантового листа в византийских вычурах. А снулый рак исполнен был яду, как печень медведя во время зимней спячки. Отравы тот рак скрывал в себе не менее, чем медовушный взор разгарчивой Мессалины, подносившей пьяный кубок с бодрянкой родному батюшке. Подсунул стольник рака, сваренного дохлым. Однако самодержец не был подозрителен. Он кликнул оберегателя государевой печати Артамона Матвеева и молвил:
– Неча все время в зерцало пялиться. Глянь на рака. Вишь, будто крыла, клешни подъял. Вот и в гербе российском крыла у орла должны прострены быть. И чтоб концы хвоста загнуть волюткой и в лапы вложить скипетр и державу. Седни же закажи новую печать. Ступай, пожалуй...
Спустя две недели была отлита новая государственная печать. Хоругви и кабаки украсились византийским двуглавым орлом с поднятыми крылами, в его когтях были зажаты скипетр и держава, крупная, как высоцкое яблоко.
И теперь, в заматерелые годы, мысли Алексея Михайловича сызнова запутались в пухлых перстах боярыни Мусиной-Пушкиной. Очнулся он, когда сквозь кошачье золото решетчатого оконца протек в палату косною струей звон Большого Успенского колокола. Царь вздрогнул, широким крестным знаменьем греховные мысли за печку загнал и вздохнул.
В Большой Успенский нынче только по праздникам звонили. Прежний колокол, что отлил Емелька Данилов с отцом своим, порушили после благовеста звонари в страшном году, когда моровая язва уложила в вотчину с косую сажень и Емельку Данилова, и еще сто сорок девять тысяч христианских душ в Белокаменной. Через год после того отлил на восемь тысяч пудов Большой Успенский литец Александр Григорьев...
Ударили в Большой Успенский, когда у царя народился меньшой сын, нареченный Петром, схожий с отпрыском Ивана Мусина-Пушкина Платоном, как колокола-близнята.
В тот же год в Пушкарской слободе у колокольных дел мастера Федора Дмитриевича Моторина родился сын, при крещении в церкви Спаса на Сретенке нарекли его Иваном. По тому случаю в Большой Успенский не звонили, однако, как и спеленутый царев сын Петр, Иван сын Федоров Моторин с младенчества наследовал у отца свое законное ремесло.
После смерти Алексея Михайловича на царство заступил его старший сын Федор, сославший Артамона Матвеева туда, где дать было нечего и некому, а заодно и кремлевский набатный колокол, что тот своим звоном нарушил его сон. А при матушке Екатерине Великой новый набатный колокол лишили языка, потому как он к бунту народ призывал. А Платон Иванович Мусин-Пушкин к бунту народ не склонял, однако и ему отрезали язык и сослали в Соловецкий монастырь при Анне Иоанновне.
Ссылали, резали языки, безглавили.
Колокола – как люди. Люди – как колокола.
2
Александр Григорьев помирал тихо. Он лежал под бугристой ватолой, худой и тщедушный, с рыжей бородой в проседи. Запавшие глазницы казались бурыми, как греческая бронза, и на горячем пошепте с его сохлых губ слетали последние слова:
– ...Как помру, серебряные рубли, что я скопил, схорони у себя. Сын твой в литцы выйдет, присягу даст, на те рубли завод литейный построй. Будете сами себе хозяева. Пусть твой Ванек грамоте обучится, чтоб не был таким, как я. Чтобы хитрую цифирь постиг. Не токмо верою, ино и мерою...
Как отлил Александр Григорьев Большой Успенский, Алексей Михайлович повелел каждоденно выдавать мастеру по серебряному рублю. Рос мастер сиротой, детей не народил, вот и завещал свой сундук с рублями старому другу. Отцы их тоже купно колокола лили. Еще при царе Михаиле Дмитрий Моторин в подмосковном селе Медведкове – вотчине князя Дмитрия Пожарского – привез вящему тезке для его церквы свой колокол.
Однако разумел Федор Моторин, что такого благозвучного, как Большой Благовестный в Саввино-Сторожевском монастыре, весивший две тысячи пудов и тридцать гривенок, никто уже на Руси отлить не сподобится. Столь знатный талан только Александру Григорьеву выпал, да и ему – раз в жизни. Грамоте и цифири не обучен был, но под тяжкой медяной плотью музыку небесной мироколицы на века угадал...
Во всяком колоколе три тона. Первый слышен сразу после удара. Если звон густ и ровен и держится долго, не глушится иными тонами, стало быть, литцу талан выпал. Начинается тот звон от дрожания частиц в средней его части. Второй тон слышен немного позже, то уже гудит боевая нижняя стенка с утолщенной губой. Чем толще губа, тем гул сильнее. Третий тон идет по дну. Если дно толстое, звон может испортить остальные два тона...
– Чударь ты, – ответил Григорьеву Федор Моторин, однако прекословить умиравшему не решился. Сын его Иван уже в шесть лет постиг начала литейной формовки и на пыльных околицах собирал в холстяной куль конские яблоки – ведал, что с ними глину смешивать лучше, чем с коровьими лепешками: от этого ни кожух, ни глиняный болван не давали большой усадки и после просушки не трескались.
С сыном слободского пушкаря Дениской Фоминым бегал Ванька на Пушкарский двор, щербатые – с прозеленью – кирпичные стены которого упирались в Лубянку и Рождественку; смотрел, как ярыжки еловыми шестами медяную расплавку дразнили в литейных печах. И затыкал на полигоне уши, когда пушкари новые орудия пытали и охульные пушки возвращали на переплавку.
Бегали они с Дениской и в Кремль слушать перезвон колоколов на Иване Великом и звоннице. Звонарь вставлял в уши рябиновую балаболку и начинал службу с удара в главный колокол.
Бом-м-м!..
А когда вступали альты – средние колокола, – вымеривал следующий удар чтением псалма:
– Блажен муж... Бом-м-м!..
– Векую шаташася...
И сызнова плескались на одной ниточке жемчуговые трели зазвонников.
Бом-м-м!..
– Господи, что ся умножили...
В три звона разлетались голоса благовестного перебора, литые в целокупности так, что и не разобрать было, то ли зазвонники плавятся и рушатся вниз басами, то ли басы дробятся на мелкие жемчужины и взмывают в поднебесье миллионами сверкучих брызг.
Дениска рос озоруном, в свои игры и Ваньку Моторина вманывал. С Ивановской площади он тащил друга к приходу Николы в Воробьине у Серебрянских бань, где бывший малороссийский коваль на старости лет заделался звонарем. Чтобы дать замер ударам, звонарь Юрка приговаривал:
– Теща б....ща... Бом-м!
– Блинища пекла... Бом-м!
– Уронила сковородищу... Бом-м!
– Всю ....щу обожгла.
И складом лились российские обмылки фряжского Возрождения, от которых Ванька с Дениской, грызя валдайские баранки, закатывались хохотком.
Однажды Дениска облачился в старые тряпки, изображая батюшку из прихода Сергия-чудотворца в Пушкарях, и делал вид, что бросает в воду соль и масло. Свершив помазание колокола – свернутой конусом жестянки – семь раз крест-накрест снаружи и четыре – внутри, окуривал колокол ладаном и речитативом выводил:
– О еже отгнати всю силу коварства и навета невидимых врагов от всех верных своих, глас звука его слышащих...
– Где воду-то взабыль брать? – спросил батюшку крестный отец.
– Была, да вся вышла. – Дениска полез в штаны. За крещением колокола следил отец Ваньки Федор Дмитриевич. Когда батюшка обратился в звонари и стал повторять припевки коваля Юрки, Федор Дмитриевич поймал батюшку за ухо, дал ему по потылице и сказал:
– Не попами и скоморохами будете, а литцами!..
Бог дал попа, черт дал скомороха, литец – литца.
Литцы на Руси жили так, что медной посуды у них было крест да пуговица, а рогатой скотины – таракан да жуколица. Пиво, что по подряду поставлялось в Пушкарский приказ на раствор формовочной глины, приказные себе забирали. Приходилось штаны рассупонивать и урыльнойI влагой смачивать глину. Рождался колокол в промежке дерьма и праха, чтобы чистой песней встречать жизнь и смерть человеческую.
3
В десять лет Ванька мог определить, готова земля на формовку или нет. Сжав в горсти горелую землю и увидев, что кусок не рассыпался, он смешивал ее с мелко толченным огнеупорным кирпичом и глиной, хранившимися порознь в больших деревянных ларях.
Дениске мастеровые уже доверяли отливать ядра. Как-то он шепнул Ваньке:
– Знаешь, какой секретный прилив для пушечного сплава?
– Нет.
– На сорок пудов полтора фунта ртути, столь же селитры и щепоть серы...
Дениска не успел досказать, как ворота со стороны Рождественки распахнулись, и на Пушечный двор, будто струя из печного очка, вылилась длинная толпа царской свиты. Впереди шел долговязый отрок в зеленом кафтане с красными обшлагами и позолоченным двуглавым орлом на груди. Это был юный царь Петр. Он обошел литейные ямы, оглядел колокол, отлитый намедни, поднял железный прут, валявшийся подле него на земле, и ударил колокол по макушке. Раздался куцый звяк.
– Почему не звенит? – спросил он.
– Бьют колокол не в голову, а в бок, – ответил Василий Васильевич Голицын.
– Пусть стреляют из пушек, – приказал Петр.
На полигоне пушкари и бомбардиры показывали удалую стрельбу. Когда юный царь сам поднес фитиль к затравке и пушка бухнула, свита заколыхалась и заволдырилась, как плавная медь под еловыми шестами. Дениска сказал Ваньке:
– Каков? Я бы тоже смог, да не велят.
А Петр сызнова поднес фитиль к казеннику. Пушка бухнула, и ядро, подняв фонтан земли, вошло в насыпной бруствер, как дробина в масло. Глаза у юного государя разгорелись. Верно, представлял он, как бьет по бунташным стрельцам, бросившим на копья сберегателя государственной печати Артамона Матвеева. Затаились в царском сердце страх и месть. Страх он скрывал, а месть свою утолил, когда вкупе с Меншиковым рубил головы стрельцам...
Денис к тому времени стал пушечным мастером, и, если где подходила пора пробивать очко в печи, чтобы пустить металл в форму, его звали на подмогу. Чугун в изломе был хорош – волокнист и зубрист, однако око могло и ошибиться.
Печник железным ломом выбивал толстый гвоздь из очка. Денис стоял у белой огненной струйки, поднимал десницу и резким взмахом разрубал ею струю, подносил ладонь к носу, нюхал ее и говорил:
– Песку и угля быстрей добавь – цинку много...
Молодые новики из подмастерьев подходили к Денису и просили показать руку. Убедившись, что ладонь не только цела, но на ней нет и следа ожога, они в изумлении великом повторяли:
– Вот чударь так чударь.
Денис знал, что, ежели рука в меру суха и в меру влажна, металл не успеет обжечь ее. Ну а уж как он чуял, чего в расплавке не хватает, а чего в излишке, того объяснить не мог.
4
Петр Алексеевич стал первым царем на Руси, своеручно силком стригшим бороды подданным. Бояре крякали, когда его величество резал ножницами подобие Божие. Один князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский, муж верный и твердый, смолчал, едва царь сделал его голорылым, и только посапывал в длинные, будто у рака, усы, сверля монарха зрачками темными и глыбкими, как пушечные жерла. Уж он-то ведал, что нижний
окоем фамильного герба Ромодановских, схожий с французской бородкой, бомбардир-капитан, он же в миру самодержец российский, остричь побоится, потому как Европу трогать накладно было – могла дать сдачи втройне. Царь уважал тех, кто был сильнее его. Дипломатом рос.
А когда царь прислал князю-кесарю машину мамуру, которая сама рубила головы стрельцам и убивцам, да заодно отрубила голову отцу Дениса Фомина, Денис явился на Пушкарский двор, выводя ногами вавилоны и крича:
– Был Бог, да весь вышел!..
– Сдурел, что ли?! – цыкнул Иван Моторин.
– Где он, Бог-то?
– Рече безумец в сердце своем – несть Бога, – ответил Иван. – Приходи, когда проспишься.
– Пьяный проспится, дурак – никогда. Уйду я из литцов. Креста на царе нет. Да и артиллерист-то он хреновый. Пушки из колокольной меди льет. С первого же выстрела порвет.
– Красной меди добавят.
– Где красную медь нонеча найдешь? Была, да вся вышла...
Петр начал войну со шведским королем Карлом XII и под Нарвою потерял полторы сотни пушек. Думному дьяку Андрею Андреевичу Виниусу, начальнику новой Конторы артиллерии и фортификации, было приказано отлить двести пятьдесят орудий. Большой Успенский колокол, разбившийся во время пожара, велено было не трогать. Колокольной меди свезли на Пушкарский двор девяносто тысяч пудов. Виниус жаловался царю письменно:
«Много остановок от пьянства мастеров, которых ничем исправить невозможно. Бургомистры красной меди не присылают, а колокольная медь в пушки без той негодна...»
Жаловался Думный дьяк, однако к весне пушки отлил. Про пьянство было наврано, чтобы проникся государь, как нелегко приходится его слуге. Денис Фомин с пьянством в счет не мог идти – ушел он из Пушкарского приказа, сиречь Конторы артиллерии.
Ивану же Моторину, когда помер его отец, в наследство перешел литейный завод на Сретенке, построенный на рубли Александра Григорьева. Владел им Иван Федорович пятнадцатый год. За восемь месяцев отлил он там из казенного чугуна сто пятнадцать орудий, работал скоро и себя не щадил. Однако лил пушки без спешки, давая расплавке отфырчаться, отшипеться, как дикой рыси, изойти газами, чтобы при отливке, не случилось раковин в металле. Сам отбирал на Пушкарском дворе не белые, а серые крицы – серый чугун хоть и мягче был и труднее плавился, однако в нем меньше цинку было – в изломе плотен и зернист, не хрупок, годился на сверление и обточку, и только такой чугун мог идти на отливку пушек и полых снарядов.
Пришел срок Ивану Федоровичу жалованье за отливку пушек получать в Конторе, да Андрей Андреевич пощелкал на счетах, поскрипел облезлым костышом по бумаге и рек:
– Сам, Иван Федорыч, знаешь, наличных денег в Конторе не бывает. Да и не положено тебе жалованья. Много на угар вышло. Норму превысил. И не я тебе, а ты мне должен три рубля с пятиалтынным и двумя денежками. К концу года заплатишь.
– Помилосердствуй, Андрей Андреич! Что я жене-то скажу? Сына от груди не отняла, в доме ни полушки...
Делал дело Виниус, да и себя не забывал. Записал подряд на медь и железо под чужим именем, подрядчикам Сибирского приказа заплатил по два рубля за пуд, в Контору доставил по шесть рублей за пуд и разницу в двадцать тысяч рублей к себе в сундук уложил. Александр Григорьев столько не накопил за двадцать лет, сколько думный дьяк за полгода ухватил у казны. Хрусталь и бархат присно были повязаны с колодкой и кандалами.
Мастера и ярыжки стали от работы отлынивать, одно ядро по неделе отливали – хоть держава и вела войну со шведом, кому охота задарма спину гнуть? Заказы на бомбы и снаряды были сорваны, а раз так – отписал государь письмо князю-кесарю, а тут и Меншиков с ревизией пожаловал.
Чтобы под старость оставить за собой Сибирский и Аптекарский приказы, Виниус вручил светлейшему князю акциденцию, что по-латински значило «случайность», а по-русски – взятка на десять тысяч рублей.
Меншиков грамоте не разумел, но охулки на руку не клал – барашек в десять тысяч выделки не стоил. Виниус был отстранен от должности. В Преображенском приказе в присутствии князя-кесаря Ромодановского Андрею Андреевичу дали вскресу кнутом. Кнут не ангел, души не вынет – это до Виниуса собственным задом усвоили даже честные отцы на Руси. Понял думный дьяк, что совершил с акциденцией промашку, да промашка раньше вышла – брал Виниус с нищих и с Ивана Моторина тоже. Поспешил думный дьяк – будто отлил колокол с большими раковинами, не дав кожуху обсохнуть. Ударил в колокол – не малиновый звон раздался, а черный хрип.
5
Новый начальник Конторы артиллерии и фортификации Яков Вилимович Брюс был выходцем из Шотландии. Брови вразлет, узкие хваткие глаза, и на скуластом фасаде – выпяченная нижняя губа. Все время он проводил на Сухаревой башне и редко сходил на землю. В телескоп следил движение планет и звезд и вершил предсказания по знакам солнопутья на каждый год. Вместе со стольником Юрием Петровичем Лермонтовым, потомком шотландского барда и мага Томаса Лермонта, он готовил к печати календарь, по которому каждый волен был узнать, когда надлежало «мыслить почать или жену пояти». Оба они читали на латинском работы знатного астронома Иоганна Кеплера и соглашались с ним, что душам свойственна природа не плоских фигур, а объемных тел. И оба пытались постичь, отчего снежинки с пушистыми лучами, гранатовые зерна, пчелиные соты и все кристаллы имеют шестигранную форму.
В паузах за трапезой, когда метафизика уступила место жареному каплуну с мальвазией, они вели беседы на житейские темы. Как-то Юрий Петрович сказал:
– В фамильном гербе моего рода есть шестилепестковая розетка.
– А девиз? – спросил Яков Вилимович, поднимая бокал венецианского стекла и рассматривая при свечах рубиновые блики его стенок.
|
| * Жребий мой – Иисус (лат.). |
– Sors mea Jesus*.
– Вы не догадываетесь, – усмехнулся Яков Вилимович, – почему мой бокал червленого колера? В стекло венецианцы добавляют примесь золота. И стекло принимает рубиновый оттенок. Sors mea Jesus. Где золото, там и кровь...
До их слуха доносился колокольный звон, и обрусевшие шотландцы принимались рассуждать, вслед за Бэконом Веруламским и Картезием, влияет ли колокольный звон на воздушные процессы.
Князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский был далек от небесных материй. Оттого царь Петр перепоручил дела Конторы артиллерии ему, а заодно повелел сделать розыск по делу Кочубея и Искры, доносивших об изменнических помыслах гетмана Ивана Мазепы. Изысканных блюд Федор Юрьевич не любил. Потомок Рюрика в двадцать втором колене, он хлебал щи, знал толк в ставленных медах и закусывал кубок перцовки пирогом с угрем. Напивался он только после охоты, и тогда шумным застольным друзьям начинало казаться, что у главы Преображенского приказа сквозь очи затылок светится. Однако розыск в подвалах приказа он всегда вел только под легким хмельком, осушив полштофа бодрянки.
Дом князя-кесаря, где на воротных столбах красовался герб с черным драконом на золотом поле, занимал добрую четверть Моховой, рядом с Преображенским приказом, у Каменного моста. Окна закрывали занавески, подвешенные на клыки кабана, убитого князем на ворошок. Клыки были схожи с крюками, на которых подвешивали за ребра татей и воров. Однако Кочубей и Искра были не ворами, а заговорщиками и изменщиками, и для них князь-кесарь приготовил иные пытки.
Когда в подвалах Преображенского приказа раздавались черные хрипы невинных малороссийских жертв, Яков Брюс и Юрий Лермонтов возвращались к себе домой на пошевнях, звонко скрипевших полозьями по укатанной снежной дороге. На Сретенке спор их о гармонии небесных сфер прервали хамовнические армаи. Московские подорожники, не считаясь с иноземным происхождением царских слуг, раздели до нитки незадачливых метафизиков.
– Побойтесь Бога, – спокойно говорил Яков Брюс, когда с него снимали шубу, подбитую лисьим мехом,
– Сказано в Святом Писании – забирающему у тебя рубаху отдай и верхнюю одежду, – ответил один из армаев. – Что касамо Бога, был, да весь вышел.
И грабители были таковы.
– Кажется, в отечестве российском народился свой Робин Гуд, – усмехнулся Брюс, выдвигая вперед нижнюю губу.
В кромешной тьме они добрели до дома, стоявшего на каменном подклете, и долго стучали в ворота, пока им не открыл бородач, одетый в исподнюю рубаху, опоясанную широким кожаным гашником.
– Кто такие? – спросил он.
– Брюс и Лермонт, – ответил Яков Вилимович.
– Ба! – удивился бородач. – Не признал я вас поначалу. Проходите. – Иван Моторин пропустил ночных гостей вперед.
Он накормил ограбленных горячими щами, дав по чарке хлебного вина. За едой Брюс рассказал о встрече с армаями и как один из них заявил, что был Бог, да весь вышел. Жена Моторина Анна, накрывшая на стол, взглянула на мужа и тут же пригасила взор, опустив веки к столешнице.
– Благодарствуем, Иван Федорович, – сказал Брюс, вытирая усы поданным полотенцем.
Покуда гости ждали возка, за которым Моторин послал дворового мужика в Контору артиллерии, они втянули в свои ученые разговоры и колокольного литца.
– Мы с Юрием Петровичем рассуждали о золотом сечении, – сказал Брюс. – О том, что в основе гармонии лежит математическое соотношение, открытое Пифагором. Это одна мера и для слова, и для здания, и для звука, и для движения планет. Должно быть, то же сечение лежит в построении формы колокола. Как ты считаешь, Иван Федорыч?..
Моторин уже давно сделал замеры колокола Саввино-Сторожевского монастыря, который отлил Александр Григорьев. Знал, что в основе построения лежит губа. По ее толщине и строилась толщина стенок, которые ко дну у самой коронки должны быть в три раза тоньше. Однако вылить колокол в нужный тон и вес никогда не удавалось.
– Не столь вежество надобно, сколь угадка, – ответил Моторин. – Можно, конечное дело, вычислить золотое сечение, как вы рекли. Однако почему ни один колокол не поет так, как Саввино-Сторожевский?..
– Верно, мастер, мыслишь! – усмехнулся Брюс.
Когда возок увез шотландцев в зимний мрак, Анна выдохнула:
– Денис разбил твого Брюса! Гореть ему, окаянному, на костре... А Брюс, владевший верою и мерою, в тот вечер сказал Юрию Лермонтову:
– Как в колоколе тона повторяют друг друга в гармоничном согласии, так и мы должны повториться в наших российских потомках...
Что же до Ивана Мазепы, то граф Гаврила Иванович Головкин, не раз посещавший когда-то гетманский дом в Москве у Покровки, в переулке Козьмы и Демьяна, писал Ивану Степановичу:
«...мы приложим неусыпные труды исследовать то зло без дальних околичностей и огласки».
Блестящий знаток латыни, Мазепа не преминул наградить Головкина акциденцией, после чего Искра и Кочубей были отданы гетману на расправу.
В Полтавском сражении ядро, вылетевшее из орудия, отлитого Иваном Моториным, угодило в носилки Карла XII и разбило их в щепки. Бомбардир, стрелявший из пушки, принял накануне варенухи с излишком, иначе бы шведскому королю не пришлось так лихо бежать с поля брани.
В короне государственного колокола стенки были вылиты Толще, чем губа, и резкий звук их рушил гармонию основного тона.
6
Когда Петр закладывал новую столицу и первым вогнал лопату в каменистую землю, высокие слуги, в безгласном восхищении окружавшие его, узрели в небе орла, парившего прямо над рукастым самодержцем. Это сочли добрым знамением. Российские орлы десятками тысяч удобряли финскую почву, не успев даже узнать, что Нева по-чухонски значит болото. И пока в Петропавловской крепости купцы заполняли снятые в аренду ледяные казематы замшелыми бочками с вином, а придворные дамы с вычерненными по последней моде зубами натужно осваивали на ассамблеях притомчивый французский менуэт и прыгучий английский контрданс и напивались до положения риз, бескорыстно спаиваемые глумившимся царем, нищие приказные в Москве на бессмертные акциденции строили себе каменные дома, и слышен был плач и скрежет зубовный в тысячах семей, силком переселяемых в Санкт-Петербург. Отныне всякий на собственной шкуре постигал хитроумную игру на четырнадцати сословных клавишах. Генерал-фельддейхмейстер, стоявший во главе Конторы артиллерии и не отличавший пищали от пушки, получал пять тысяч шестьсот шестнадцать рублей в год, подьячий – двадцать четыре рубля, и кузнец того же ведомства – четырнадцать рубликов, тринадцать алтын и две деньги. Не важно, был ли слух у подданного, важно было, в какую клавишу он тыкал.
Россия превращалась в могучую военную державу, нутро которой разъедало первобытное бессудие. Любовника своей первой жены, царицы Евдокии Лопухиной, Петр посадил на кол. Споенный светлейшим князем Меншиковым царевич Алексей был сперва пытаем на даче Ивана Мусина-Пушкина в присутствии отца, а после задушен в Трубецком раскате Петропавловской крепости накануне девятой годовщины со дня Полтавской победы. Купецких бочек больше в казематах не было – их место заняли политические заключенные. Российский чудотворец претворял вино в кровь. Страх можно было скрыть, но гнев скрыть не удавалось...
Едва сын Моторина Михаил в день Алексия Божьего человека прибежал домой и сказал, что в храме Николы в Воробьине какой-то мужик порубил топором святые образа Спаса и Богородицы, крича: «Был Бог, да весь вышел», Иван Федорович посмотрел на жену и хрипло молвил:
– Все ты, Анна-пророчица...
Постарела жена его, как похоронила грудного сына Дмитрия. Никто болькости матернего сердца не изведает до конца. А уж когда шесть годов тому завод их на Сретенке погорел без остатку, как-то согнулась вся.
И пошел Моторин на Болотную площадь, где должны были сжигать Дениску Фомина. Пахло на Болоте мокрой псиной, кислым пивом и спелой репой. Березы наперед ольхи опушились – надо было ждать сухого лета, а стало быть, и пожаров. Стоял бывший пушечный литец привязанным к столбу. Обложили его кругом березовыми поленьями. Мальчишкой Иван бросил в литейную печь березовый катыш, и Дениска попрекнул его: «Сосновые класть надобно, они смолистей, и хоть жару меньше дают, пламы у них выше и длиньше...»
Десятого патриарха на Руси Адриана царь убрал, в делах церковных теперь командовал Святейший Синод, а в гражданских – патриарх всея Яузы и всего Кокуя князь-кесарь, покуда был жив, а после – сын его Иван Ромодановский. Зачитан был приговор, одобренный Синодом, чтобы Дениса Фомина предать сожжению заживо.
Палач поднес горящую головню к хворосту. Под легким ветерком пламы нехотя метнулись к Денису. Денис держал в правой руке топор, которым он рушил образа в храме. Положа руку на огонь, он вещал голосом мерным и страшным:
– Будут трусы и мятежи, будут лживые пророки. От девки от Магаданы народится сын...
В тот же день Иван Моторин пошел на Варварку, в царев кабак, где дудели скоморошьи волынки и пьяные девки, натерев щеки злой бодягой, купали свои губы в словесном непотребстве. Иван не помнил, как снял с золотушного попика скуфью – из уважения к распятому Христу – и набил ему варю. А вышедши вон, положил бороду на плечо и узрел над дверью двуглавого орла, когтившего скипетр и державу.
– Отдай державу Христу, – шатаясь, сказал Иван. – Это я тебе говорю, двубашковый кровопийца.
Он поднялся на взлобок Старой площади и запел:
– Теща б....ща блинища пекла!..
В закатных лучах солнца двуглавый орел с простертыми крыльями отливал багрецом, будто сваренный заживо рак.
7
Фельдмаршал Миних, моложавый обаюн, казался другом всех, потому что не любил никого. Он был прост как дрозд – в шапку нагадил и зла не помнит. Обнося старый Киев валом, он засыпал землею и взорвал златые врата Ярослава, но, ревнуя к изволению предков российских, с позволения Анны Иоанновны послал своего сына в Париж, дабы прославить мастерство московских литцов. Миних-младший предложил золотых дел мастеру академику Жерменю составить проект отливки Царь-колокола.
– Сколько будет весить колокол? – спросил французский академик.
– Двенадцать тысяч пудов, – ответил сын фельдмаршала.
– Вы шутите! – расхохотался Жермень. – Это невозможно технически. Глиняная форма не выдержит давления металла.
Однако Жермень умел вить веревки из песка и за проектные расчеты заломил такую сумму, что Анна Иоанновна решительно отказалась от своего намерения.
Иван Моторин сам составил проект и отправил его в Санкт-Петербург. Высочайшее утверждение пришло через два года. Бумаги из новой столицы в Белокаменную и обратно шли неторопко. Когда казна открывала свой кошель, чтобы расплатиться, сажень превращалась в версту. Но если надо было обобрать подданных, верста сжималась до вершка. Растрелли было предложено заняться декором будущего Царь-колокола. Тот не соглашался работать ниже восьми тысяч рублей – сюда он не включал оплату материалов и жалованье мастеровым и работным людишкам. Иноземцам со времен Петра платили жалованье в четыре-пять раз больше, чем россиянам, и любовь к покинутой отчизне тощала у них быстрее, чем карманы.
За слова и травы, образы и персоны на наружной стенке колокола взялся Федор Медведев, пять лет учившийся в Венеции у скульптора Пьетро Баратты. Секреты ремесла, не ставшие достоянием черни, ценились в Европе выше, чем тайна таланта. За зеркало высотой в полтора аршина и шириной в аршин платили почти семьдесят тысяч серебряных монет. В зеркале сильные мира сего созерцали самих себя. В картине Рафаэля они могли видеть только одного Рафаэля и платили за нее три тысячи. Тайны ремесла становились явными, тайны таланта все века оставались тайной, как формула колокольной гармонии.
Персоны Алексея Михайловича были уже готовы. Только Иисус у Медведева не получался. Сын Божий ходил по раскаленным палестинским камням, был прожжен солнцем; повстречайся он царю Петру, тот мог бы и у него оттяпать бороду.
– Что-нибудь узрел? – спросил Моторин, когда скульптор укрыл его портрет влажной холстиной. Медведев лепил из гжельской глины голову литца.
– Узрю, когда начну резать из дерева, – ответил тот, вытирая руки о фартук. – Ты что такой смурной?
– Завод мой опечатали. В Сенате следствие ведут, сколь я уворовал у казны олова и меди, из коих в двадцать седьмом году вылил колокола для Исаакиевского собора.
Через три дня Федор Медведев принес наброски образов Христа и Анны-пророчицы. Моторин кинул взгляд на листы бумаги – перед ним был скуластый мужчина с широким носом и распухшими губами. Анна-пророчица была схожа с женой Моторина.
– Чтоб Христос державу в персты взял, такого еще никто не творил, – молвил он и провел кургузыми пальцами по лицу пророчицы. – Чударь ты истый.
Как Медведев с товарищами закончил работу над моделями, в Санкт-Петербургский сенат полетел доклад: «...оный убор сделали и окончили только в тысячу четыреста рублев, в том числе и инструменты и дача денежного жалованья».
И еще Медведев удивил литца напоследки.
– Почему у тебя ангелы глаза так раскрыли? – спросил Моторин, когда Медведев отлил восковые модели их голов. – Будто плакать хотят и не могут.
– То взабыль так. Все слезы выплакали, глядя на дела земные.
8
– Ваше величество, – докладывал граф Головкин, – мастера московские зело распустились. Моторин просит, чтобы ему за четыре прошедших года жалованье выплатили.
– Пропьет все, бездельник, и работы не исполнит, – ответила Анна Иоанновна, напрягая крупный настырный подбородок.
– Я напишу в Московский сенат, – продолжал Гаврила Иванович, поморщась. Давала знать о себе подагра. – Чтобы к нему приставили унтер-офицера, пускай не отлынивает от дела.
– Быть по сему, – ответила Анна Иоанновна. – Сроки давно вышли, пора и честь знать. А жалованья не давать, покуда не будет колокол отлит...
У себя в Ропше граф Головкин написал письмо в Сенат. Второй десяток лет он донашивал кафтан кофейного цвета, блюдя заповедь: «И плоти угодия не творите». Дописывая последние строчки, он вспомнил, как первым из царских слуг назвал Петра Великим и Отцом Отечества. Пора было и Анну Иоанновну причислять к лику великих. Канцлер подошел к трюмо. Его сделал сам Петр – два столба, изображавших два лавровых дерева с орлом наверху каждого. Канцлер прослезился, перекрестился на образа и зашептал Символ веры. Как всякий вор, он был слезлив, как всякий плут – богомолен.
В письме Гаврила Иванович давал инструкцию к тому, чтобы «за ленивым колокольным мастером Моториным прилежно смотреть, чтоб он безотлучно при той работе был, и кроме субботы и воскресения в дом его не отпускать...».
Выручил Моторина казенщик при винном откупе Иван Веселовский и дал в долг триста рублей. Пришел срок возвращать деньги, а жалованья не дали – дали артиллерии капитана Глебова, чтобы тот следил за литцом и домой не отпускал. Артиллерии капитан неотступно ходил за Иваном Федоровичем, а к вечеру отводил на Пушкарский двор и самолично будил его в шесть утра...
Двое суток плавилась медь в четырех печах. В двух из них подняло поды, и металл стал уходить в землю. Прорвало медью под и у третьей печи. Моторин понял, что печники уложили в поды не донской кирпич, а мещанский. Недоглядел литец за ними.
Отливку отложили до следующего года. Однако Моторин до того дня не дожил. Как преставилась жена его Анна, так в мае 1735 года в пожаре сгорел весь его дом. С голодухи и горя слег Иван Федорович и уже не вставал до августа. Господь прибрал его душу на Свое Преображение.
А в ноябре Михаил Моторин пустил медь сразу из четырех печей. Не боялся, что кожух не выдержит, – отец все рассчитал без сучка и задоринки. Каждую минуту в яму поступало триста семьдесят пудов меди. Такой нагрузки на форму не знал в мире ни один колокольный литец.
Да только не суждено было зазвонить в Царь-колокол никому – от забытой копеечной свечки, зажженной на Троицу перед образом Спаса в чулане женкой Марией Михайловой в доме отставного прапорщика Александра Милославского, загорелась Москва. И кто-то по нечаянности, плеснув на горевшие бревна, покрывавшие литейную яму, попал на Царь-колокол. От него откололся нижний кусок и выдвинулся, как нижняя губа у Якова Брюса. Узнав про то, заплакал Михаил Моторин.
9
Тонколодыжная Елисавет, с поратостью гончей взлетевшая на престол, великодушно отменила смертную казнь, однако по привычке, унаследованной от отца, продолжала бить государственный колокол по макушке. Сердце колокола пребывало безгласно.
По исконным поверьям, ангельские слезы, падая на землю, превращались в алмазы. Сын графа Головкина был сослан на Колыму, в Собачий острог, где под вечно мерзлой землей прятались золото и ангельские слезы. За Иваном Головкиным доброй волей последовала его жена, урожденная княжна Ромодановская. Через четырнадцать лет оплакала она смерть мужа, скончавшегося за тысячи верст от Санкт-Петербурга. Это среди каторжан родилась страшная в своей наготе истина, дошедшая до нашего века, – слезы не имеют запаха. Даже ангельские...
А через сто лет потомок Томаса Лермонта, тоже поэт и прорицатель, предскажет себе свою гибель и гибель России в черный год. Когда убитого поэта везли на телеге, из его легких вырвался черный хрип. Червленый намет его родового герба был подложен золотом. А где золото, там и кровь.
В семнадцать лет он написал загадочные строки:
...Сладость есть
Во всем, что не сбылось.
Колокола – как люди. Люди – как колокола.
|
|
|