 |
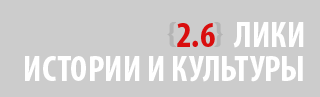 |
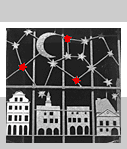 |
|
|
Читателям
|
 | Толстая Т. Н. Легкие миры. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. – 477 с. – (Проза Татьяны Толстой) – «А мы, Толстые, с XIII века здесь сидим! Так и сидим. Всех пересидели. Остальные неизвестно откуда взялись, а мы сидим, и ничего», – это из интервью Татьяны Толстой, помещенного в книге. По тону видно: раздражена; взорвала ее эта темка про то, кто нынче у нас патриот. Правда, само интервью, которым почти завершается (венчается смыслово?) книга, слишком удачным не показалось. Интервьюер Иван Давыдов пытается выстроить интеллектуальную схему какую-то, но с Татьяной Никитичной этак не забалуешь! Она остается в вихрях природной ей стихии, где остро политическое, пряно бытовое (порой с матами), магическое, мистическое и историческое вихрятся, как лепной и яркий в пустыне смерч. Для себя я давно определил: у Толстой, как и у ее знаменитого дедушки, не найдем мы игры в бисер, но всегда напоремся на мощный поток жизненной энергии, на огромное, инстинктивное жизнелюбие. Сила эта языческая и инфернальная. А что вы хотите: в том же интервью Толстая признается – мать ее и сестра были ведьмами. Скажете: дамское «бла-бла-бла»? А вы вот прочтите – и вы поверите! Там, в текстах, и впрямь «вихри враждебные веют» – те, что «рассудку вопреки». Собственно, вся книга о магии и мании тонких «легких миров» (к которым относятся искусство и творчество, любовь и семья, и всегда невыразимость жизни). К ним, к мирам этим тонким и легким, продираешься сквозь тяжкие заносы низкой жизни, впрочем, по ходу порой любуясь и фигуристыми этими заносами. Книга Толстой – настоящий «магический реализм» без досужего переодевания в фольклорные лохмотья. Просто жизнь, рассказанная сестрою и дочкой ведьмы. Открывает книгу повесть «Легкие миры», уже читателю знакомая и уже удостоенная. Она о том, главным образом, что в «лихие 90-е» Толстая была «с моим народом» и в «этой стране», а именно: в США, где наставляла будущих местных письменников. И ей, записной либералке и вроде б западнице, в целом там не понравилось: летом природа нагло прет в дом, как дурная, а уклад жизни рационален – и тоже до одури. Для еще не читавших: «Легкие миры» – повесть из нескольких текстов, ассоциативно между собой соотнесенных. Американские впечатления и размышления о нынешнем нашем дне чередуются с воспоминаниями о детстве, о родительском доме, где семеро по лавкам (в буквальном смысле: у Толстой шесть братьев и сестер, даже семь было…), о двух разных семьях: Толстых и Лозинских (да-да, тот самый поэт и переводчик Данте – другой ее дедушка!), о времени, когда дворян Толстых и Лозинских чудом из Ленинграда не выслали, о бабушке, которая тайком кормила 37 семей родных и близких, что таки были высланы… «Легкие миры» – повесть о глубоких корнях и о том, почему не удалось кроне зацепиться за яркое американское облако. Или же удалось отчасти: сын Татьяны Толстой там живет. Остальные тексты книги – эссе, очерки, рассказики, кулинарные рецепты (и толкования их смыслов, например, салата «мимоза» или непременного новогоднего холодца) – навеяны родным вчера и сегодня, и чаще всего бытом, знакомым, думаю, любому читателю. Пестрый этот набор объединен одним. Толстую волнует диковатая прелесть (прелесть – и в значении «манкость», и в значении «обаяние») русской жизни и русского национального характера. Автор чувствует себя частью всей этой прелести, ее носительницей и активной (хотя и подневольной порой) участницей. Книга Толстой при всей ее бытовой живописности – открытая публицистика. Ненависть ее к советскому опыту, можно сказать, естественна, всей родней выстрадана, хотя вряд ли и здесь всё так однозначно было … Вообще позиция Толстой в чем-то парадоксальна. Прилипло к ней клише «либералка и западница» – ну так и высказывания ее на злобу дня только в этом русле. Но образ родины, приведенный в книге, у нее весьма консервативный: такая чернота неоглядная, и в ней лишь две точки современной жизни светятся – Москва да Питер, а между ними поезд «Сапсан», который бескрайняя черная Русь норовит подорвать и со смаком слопать. Как-то сильно пахнет это словами Победоносцева о снежной степи и лихом человеке с топором. И естественный возникает при этом вывод у всякого благополучного россиянина, даже и тронутого европейскостью: надо бы «подморозить»… Впрочем, Толстая не догматик, не теоретик. Она замечательно зоркий и обычно очень честный эмпирик-наблюдатель, а что созерцать приходится сплошные противоречия – не ее вина. Итак, с нами делятся личным опытом – и что может быть интереснее опыта сильной, неординарной личности? Впрочем, и с собственно силой слова отнюдь не покончено. Растеряв интерес к изящной словесности (быть может?..), русский народ остался верен слову как единственному средству выражения магии и мистики своей жизни. Конечно, не испорченный образованием нутряной народ. К примеру, вот штукатуры. Уж как они филонили при ремонте квартиры писательницы! Поселились – и живут себе, как родные, и убираться (во всех смыслах) не собираются. Пришлось звать на помощь сестру Катерину – ту самую, которая ведьма. Она явилась к филонам и объявила с порога: «– Я – черт. Раздалось молчание, если так можно выразиться, и на секунду бригада на козлах оцепенела. Катерина метнулась в угол, выставила обе руки с пальцами, расставленными рогулькой, и объявила: – Напускаю порчу!!! Все – вон отсюда! Раз… два… И что же! Они спрыгнули в едином порыве и побежали, грохоча по дощатому полу, толкаясь и глухо матерясь… И я никогда больше ни одного из них не видела. – Что это ты сделала? – ошеломленно спросила я. – Как? – Это народ, с ним иначе никак, – сказала Катерина». Конечно, иной заметит: много в этом барства восьмисотлетнего! Но ведь подействовало… Впрочем, западница-либералка Толстая любит народ и черненьким, находя вдохновение там, где другой только нос зажмет. Известно ж ее признание: «Кысь» стала писать, когда увидела, что туалетом в купленной сестрою избе служил лаз в коровник… Вот уж где «силы потайныя»!.. Мне кажется, своеобразие Толстой-автора среди наших именно писательниц в том, что она удивительным, уникальным образом сочетает в себе вот эти силы хтонические, размашистые – и легкие миры, и дамскость не без эстетства, и внимание к быту. Ее многообразная, часто и озорная женственность порождает совершенно неженскую прозу. Это проза будущего, проявляющая себя с гендерной свободой, но без гендерной ограниченности. А кстати, стоит задуматься, почему в нынешней нашей словесности, в самых разных ее сегментах, от серьеза до попсы, так заметна женщина-автор? Тут без модного слова «пассионарность» не обойтись: мы наблюдаем слом этой самой пассионарности. Это как в XVII веке французские авторессы воспитывали общество. Вот и наши так же, наверное: отмыть пассионария, причесать усталого забияку и привить ему нормальные мысли – о любви, о доме и о семье, и о том, что терпеливая повседневная человечность важнее азарта минутного красивого подвига. И уж точно ближе она к легким мирам… 4.09.2014 |
Валерий Бондаренко
 «Легкие миры» Татьяны Толстой
«Легкие миры» Татьяны Толстой