 |
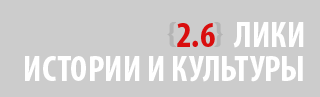 |
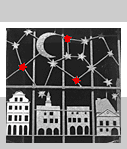 |
|
|
Читателям
|
 | Рейфилд Д. Сталин и его подручные. – М.: Новое литературное обозрение, 2008. – 576 с., ил. «Благодарность – собачья болезнь» Голову на отсеченье даю: свои книги о Сталине и Чехове Дональд Рейфилд замыслил как дилогию о России. О тех двух полюсах ее, которые тревожили сон западной «отроковицы»: о русской завораживающей культуре и о российской имперской, даже к себе самой беспощадной мощи. Судьба этих книг оказалась разной. «Жизнь Антона Чехова» дала шороху. «Сталин и его подручные» прошли по России без шума и следа. Логика в этом есть. Мы устали от сталинской темы в любой ее версии – панегирической или изобличительной. (Аналитический вариант у широкого читателя всегда не очень востребован). Между тем, Рейфилд задается актуальным как раз для нее, для широкой публики, «жизненным» вопросом: КАК такое могло случиться? По его мнению, Россия начала 20 века не слишком-то и отстала от Франции или Англии тех лет. Да и в совсем уж, на 100%, европейской Германии в 30-е годы стряслось нечто аналогичное нашему сталинизму. Так значит вирус тирании и попрания человечности, возможно, и посейчас бродит по Европе? Даже по ней нынешней, унавоженной идеями политкорректности «по самое не могу»?.. В своей книге о Сталине и его палачах лондонский профессор видит не одно только исследование о недавнем прошлом, но и предупреждение о всегда возможном для нас грядущем. Правда, Пегас исторического анализа и Соврас публицистики рвут Рейфилдову колесницу порою буквально на части… Но все по порядку. Начинает он свой анализ с истоков – с детства Вождя, попутно опровергая миф о незаконно княжеском происхождении Кобы и заодно подпуская психоанализу. Сын алкоголика и ригидной женщины, Сталин отличался фанатизмом, сперва религиозным, а после политическим (социалистическая доктрина), но психиатрическая составляющая с годами стала только темней. |
 | Фото молодого Сталина, помещенное в книге, скажет читателю больше осторожного Рейфилдова анализа. Это страшное лицо, лицо веселого (точнее, радостно беспощадного, хитро-игривого) зверя – столько нечеловеческой в нем энергии! И в то же время это лицо человека своеобразной психической складки и (или) непривычной для нас культурной традиции. Такие лица мы видим в пособиях по психиатрии (маньяки) и на ассирийских рельефах. Да, нечто и мощно природное, и болезненное, и своеобычно древнее, ДИКОЕ есть в этом лице! Оно выпадает из обыденного, привычного нам контекста. Между прочим, Рейфилд утверждает: Сталин и его подручные (особенно Берия) привнесли в практику политической борьбы не просто банальную уголовщину, а ментальность кавказскую, родовую, для нас архаичную, где кровная месть и круговая порука – вещи естественные. «Чингисхан, прочитавший Маркса» – так определил Сталина Троцкий (с. 176). Жестокости Гитлера воспринимаются более рационально простроенными – так сказать, «без фанатизма». К тому же Гитлер порой совершенно сознательно становился марионеткой в руках групп влияния. В развороченной революцией России Сталин действовал сперва в одиночку; во всяком случае, ВЛИЯЛ всегда – он. «Как сумел Сталин перехитрить и заставить замолчать людей более образованных и красноречивых?» – задается вопросом западный «человек культуры» Д. Рейфилд. И отвечает по видимости наивно, но точно по существу: «Главным методом Сталина было притворство» (с. 167). Вообще, там, где Рейфилд анализирует характер Сталина как частного лица, многое выглядит хоть и банальным, но вполне убедительным. При этом автор всегда умеет вплести живую, все раскрывающую деталь: «Сталин рассказывал Дзержинскому, что его идеал счастья – подготовить отмщение и потом лечь спать» (с. 177). При этом автор порой упускает те связи, которые сетью окутывали личное «психе» Сталина (больного паранойей) и жизненную ситуацию, в которой он действовал. Манера Сталина присваивать чужие идеи, истребляя их реальных «родителей», – это история болезни, которая, прежде чем стать историей страны, становилась вполне логичной, «оправданной» практикой жесткой политической конкуренции. Вот с этим-то переходом личного в общественное, с историческим контекстом (а порой и психологическим подтекстом) у Рейфилда и случаются неувязки! Для автора ясно все – главным образом, сдается мне, потому, что пишет он для такого же ждущего однозначных вердиктов читателя. Например: «Сам Сталин в середине 1930-х гг. представляет собой выродившегося психопата, который чем больше врагов истребляет, тем более намечает на истребление» (с. 315). Но, дорогой товарищ Рейфилд, в начале 40-х один ваш выдающийся и гораздо более ответственный за свои слова соотечественник воспринимал Сталина вовсе не как пациента дурки… Кстати, Рейфилд сам же и опровергает себя, отмечая в репрессиях 30-х вполне рациональную составляющую. Переориентация с идеи мировой революции на возрождение российской империи понудила Сталина изменить возрастной и национальный состав главного своего оружия – органов госбезопасности. И, отдадим Рейфилду должное, – он аргументирует это данными из архивов (что всегда сильная его сторона): «1 октября 1936 г. из 100 кадровых офицеров только 42 были русские, украинцы, белорусы… (остальные – евреи, латыши, поляки, немцы, грузины, – В. Б.). Берия повысил число русских до 122 и сократил число евреев до шести» (с. 329); «Средний возраст старшего энкавэдэшника упал с 42 до 35 лет» (с. 330). (Некоторая неувязка с цифрами оттого, что состав кадровых палачей во время репрессий расширили). Предмет исследования автора, однако, – не статистика, а социальная психология. На вопрос: почему люди не сопротивлялись террору, почему покорились ему и отчасти даже его поддерживали, Рейфилд отвечает слишком однозначно: «Террор был орудием не совсем слепым… Террор натравливал молодых, обездоленных и необразованных против старших и преуспевших… Тем, кто губил других, … руководили личные моменты – месть, зависть, корыстность» (с. 317). Словно этот пассаж вырван из «Огонька» 1990 года! Тогда такие разоблачения воспринимались как откровения. Но сейчас как-то слишком уж очевидно, что картина была сложней. Советские 30-е – это время, когда страх и энтузиазм СОСУЩЕСТВОВАЛИ, создавая очень своеобразное поле натяжения нервов в советском обществе. Еще очень живая греза о светлом (близком) будущем уживалась с ощущением вечной опасности, приближающейся войной. Если мы спишем со счетов этот странный, истерический и наивный, героизм, мы не поймем людей того времени и не разгадаем рычагов воздействия Сталина на его современников, природу почти религиозной повальной веры в Вождя. Но неуемный «архивный жук» Рейфилд сам же и дает нам свидетельства этого! Чего стоит, например, письмо Н. Бухарина Сталину уже из тюрьмы – письмо, где он оправдывает даже и свой арест: «…имеется какая-то БОЛЬШАЯ И СМЕЛАЯ ИДЕЯ (здесь и далее выделено Бухариным, – В. Б.) генеральной чистки… БОЛЬШИЕ планы, БОЛЬШИЕ идеи и БОЛЬШИЕ интересы перекрывают все, и было бы мелочным ставить вопрос о своей собственной персоне НАРЯДУ С ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИМИ задачами, лежащими прежде всего на твоих плечах» (с. 345). Совершенно справедливо Рейфилд считает одним из важнейших условий торжества культа личности уничтожение в советском обществе альтернативных нравственных координат, систем ценностей. Это только неприкосновенная икона советской науки академик И.П. Павлов мог позволить себе возопить во время 100-летнего юбилея Сеченова в 1929 году: «О суровый и благородный товарищ! Как бы ты страдал, если бы еще оставался среди нас! Мы живем под господством жестокого принципа: государство, власть – все, личность обывателя – ничто… На таком фундаменте, господа, не только нельзя построить культурное государство, но на нем не могло бы держаться долго какое бы то ни было государство», с. 194. Штука, однако, в том, что в 30-е годы «вне партии фактически уже не существовало какой-либо общественной этики» (с. 316). Впрочем, возиться с анализом Рейфилду опять недосуг, ведь книжка его сугубо популярная, несмотря на мощный справочный аппарат. Как и жизнь Чехова, жизнь и деяния Сталина он рассматривает с, так сказать, обывательской точки зрения (не в ругательном смысле слова). И возрождает тем самым советскую традицию разговоров по душам на кухне, где все идеи и факты толкуются с точки зрения частного человека. Здесь частная, отдельно взятая судьба – мерило всего: «Сегодняшние неосталинисты скажут, что из-за террора страдало всего полтора процента народа и что этой ценой дешево откупились от поражения в наступавшей войне… Хочется знать, что пришло Сталину на ум, когда он узнал из отчаянного письма одного родственника, что в апреле 1938 г. среди многих тысяч женщин, задержанных НКВД прямо на улице и исчезнувших в лагерях, оказалась его собственная незаконнорожденная дочь, Паша Михайловская?» (сс. 359, 360). Рейфилд плосковато рефлексирует, зато рельефно констатирует. Благодаря ему широкий читатель, думаю, лучше поймет, почему в Восточной Европе и Прибалтике до сих пор в нас видят угрозу, почему не так однозначно восторженно относятся к нашей победе в войне. Характеристика лидеров и режимов стран послевоенного «социалистического лагеря» многим продует мозги, я думаю. Бесспорная удача автора – портреты подручных Сталина. С ужасом понимаешь, что это не клинические садисты, а весьма своеобразные и разнообразные личности. И пламенный аскет фанатик Ф. Дзержинский, и незадавшийся литератор, зато блистательный конспиратор и эстет, друг поэта Кузмина и губитель поэта Блока В. Менжинский, и скромный скопидом, «нелюбимый ребенок в семье», вечный «троечник» в глазах Сталина Г. Ягода. Образ Н. Ежова, энергичного «ежевички», этого алкоголика-деклассанта, страстно ненавидевшего «интеллигентов», в книге бледней, хотя для характеристики эпохи он наиболее выигрышен. Зато образ технократа-жизнелюбца Л. Берии дан в книге масштабно и почти контрапунктивно. Рейфилд вообще подробно излагает малоизвестный широкой публике и очень колоритный материал о репрессиях 30-х гг. в Грузии, о том, как выкашивали грузинских писателей (и сами они порой этому способствовали своими дрязгами), о том, что и здесь не было справедливости. (Или логика была, но какая-то очень подсознательная, шкурная). Так, погибли благородные и безобидные для власти П. Яшвили и Т. Табидзе, зато уцелел любимый грузинский прозаик Сталина (и впрямь блистательный) К. Гамсахурдия (отец будущего первого президента Грузии), который не скрывал своих пронацистских симпатий. Во всех этих интригах Берия играл первую скрипку и проявлял порой сатанински артистические способности. Читая иные страницы о нем, думаешь, что имеешь дело не с реалом, а с художническими гротесками из фильма Абуладзе «Покаяние». Чего стоит, например, расправа с С. Ахметели, учеником Станиславского, возглавлявшим театр имени Руставели. Вещи казненного были выставлены на аукцион в его же театре! Удивительно, что после смерти Сталина Берия словно переродился, сделался вдруг «гуманист и хозяйственник», почти рыночник. И если уж говорить при этом о нравственной или психической патологии, то патологичным кажется само наличие политиков как таковых в человеческом обществе… Много занятного и порою парадоксального мы найдем в этой книге. Например, из подробного (и очень живого) рассказа о Катынской трагедии мы узнаем, что захваченные в плен польские фашисты уцелели, ибо их передали Гитлеру. Или о том, что «…большая часть немецких пленных была захвачена только в последние полтора года войны, и тем не менее их ежегодная смертность оказалась вдвое выше, чем таковая советских военнопленных в Германии» (с. 437). Сильная сторона книги Рейфилда в заинтересованном, пристрастном отношении автора к теме при опоре на цифры и факты. Но в своем «кухонном» разговоре автор позволяет себе и подраспоясаться. Иные оценки его звучат для нас диковато: «Андрей Белый, гениальный шарлатан (?????!!!!!) и alter ego Блока…» (с. 134). Порой автор просто попадает впросак, распространяя сценический псевдоним Станиславского на весь род великого режиссера или называя Буденного «дряхлым», хотя в описываемый момент маршалу было 54 года (а прожил «дряхлец» все 90!)… Вообще-то досада берет, как плоско, «по-кухонному» обращается Рейфилд с добытыми сведениями. «После 1934 г. события в СССР противоречат не только всякой нравственности, но и всякой логике» (с. 274). Любой вдумчивый человек на это только плечами пожмет. Ясное дело, цель Рейфилда – дезавуировать всякую тоталитарную идею на нашей почве, тем более, идею имперскую. И своим «Чеховым», и своим «Сталиным» он доказывает (показывает, точнее): русская жизнь иррационально бесчеловечна и попросту бытово неустроенна. Всю ее нужно или переделать, или вовсе закрыть, как тупик в эволюции. Этим Рейфилд присоединяется к традиции А. де Кюстина – видеть в России нечто определенно варварское и однозначно Западу угрожающее. Правда, со времен Кюстина эта традиция обогатилась преклонением Европы перед русской классической культурой. Однако, похоже, для поколения Рейфилда (поколения победителей в «холодной войне») и этот шарм малость поблек… Конечно, в позиции Рейфилда много несамокритичности, много самодовольства. Она обидна нам и вряд ли отражает историческую истину. Для нас этакое самоуничижение – оттуда, из 90-х, из вчерашнего дня, который уже показал свои либерально корыстные зубы. И все же я прислушался бы к нахальным наставленьям лондонского профессора, которыми он завершает свою крайне поверхностную, но занимательную книгу о Сталине: «Российское государство не хочет окончательно отречься от Сталина и его палачей… Пока историю не будут рассказывать без утайки и пока остальной мир не будет настаивать, чтобы в России полностью и до конца раскрыли и искупили наследие Сталина, Россия останется духовно больной страной, одержимой призраками Сталина и его подручных и, хуже того, страхом, что эти призраки воскреснут» (сс. 502, 503). |
Валерий Бондаренко
 Д. Рейфилд: Сталин не угомонился?..
Д. Рейфилд: Сталин не угомонился?..