 |
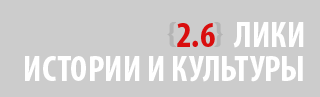 |
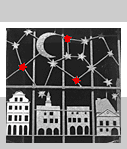 |
|
|
Читателям
|
 | Маврина Т. А. Цвет ликующий: Дневники. Этюды об искусстве. – М.: Молодая гвардия, 2006. – 364 с.: ил. – (Б-ка мемуаров: Близкое прошлое; Вып. 22) «Бог разговаривает с человеком временем», – Эти горькие (в личном тогда контексте) слова Татьяна Маврина написала в 1992 году. Жизнь одной из интереснейших русских художниц охватила почти весь прошедший век (1900–1996 гг.). Сборник ее текстов (а также фото и репродукций) «Цвет ликующий» позволяет хотя бы отчасти прожить рядом с ней этот ушедший век. Зачем нам это нужно? Ну, во-первых, для восстановления справедливости. Татьяна Алексеевна Маврина и ее муж Николай Васильевич Кузьмин – яркие, замечательные художники. Но не ищите их в сводных «отчетных» альбомах советского времени, этих тускло изданных и пафосных нерадостных книжищах. Скажем так: «официальные лица», надзиравшие за советским искусством, уважали их, но обе стороны держались на расстоянии. Впрочем, широкое (в том числе и международное) признание пришло к Кузьмину (вероятно, лучшему иллюстратору Пушкина) и к Мавриной уже в 60-е гг. Однако оба упорно сторонились как советского официоза, так и различных течений в нашем искусстве, отмеченных некой оппозиционностью. Их альбомы и проиллюстрированные ими книги всегда становились событиями, и теперь, мне кажется, самое время переиздать их на более достойной современной полиграфической базе. А во-вторых, книга дневников и статей Мавриной (как и книга воспоминаний Кузьмина «Круг царя Соломона») – увлекательнейшее чтение само по себе. У Мавриной глаз художника, да и эрудиция тоже не наша. И еще ей присущ в огромной мере «темперамент мысли»: умение живо и очень подчас едко сказать то, что сперва, может, и покоробит, а после не захочешь, а согласишься. * * * Внешний рисунок биографии Т.А. Мавриной в общем-то незатейлив. Родилась в Нижнем Новгороде в интеллигентной и одаренной семье. (Ее брат Сергей Лебедев – академик и отец советской кибернетики, создатель первого нашего компьютера). В голодные годы гражданской войны семья перебралась в Москву. Здесь Татьяна Лебедева (Маврина – фамилия ее матери, которую художница сделала своим псевдонимом) целых семь лет (1922–1929 гг.) учится в кузнице кадров левого искусства – во ВХУТЕМАСе. «Преподаватели ничему не учили, – вспоминает Маврина. – Говорили: „Пишите, а там видно будет“». А писать было так интересно, что придя домой, мысленно говорила: „Скорее бы наступило завтра, можно будет пойти в мастерскую и писать начатое вчера“» (с. 15). Позже Маврина критически переоценит многих своих учителей и ставших знаменитыми однокашников. Но пока она – ученица, хотя особенно прилежно учится в залах музеев, у полюбившихся на всю жизнь ей «французов»: импрессионистов, постимпрессионистов и их продолжателей (Моне, Ренуара, Ван Гога, Сезанна, Боннара, Матисса, Пикассо): «…После импрессионистов и Ван Гога и Матисса – земля преобразилась в глазах людей и стала умопомрачительной! Они показали, как глядеть, и уж что увидишь – твое дело» (с. 123). От них у Мавриной – и приемы, и настроение. «Упоение жизнью» – вот и весь пафос. Зато как выраженный! «Цвет ликующий» неспроста названа книга. |
 | В 30-е Татьяна Маврина создает светозарные пейзажи, ироничные портреты и томные, однако озорные «ню» (изображения обнаженной натуры). Вероятно, самая забавная «нюшка» (сленг художников) в русской живописи – портрет красавицы Ольги Гильдебрандт в шляпке, с веером и с очень светской недоступной физиономией. А вот прелестные «Обнаженные с синим чайником»: девушки-куколки в аккуратных прическах. В их теплый уютный мир чайник врывается звонкой синей улыбкой, может быть, ночи, может, и тайны, которую они так сосредоточенно обсуждают… (Кстати, «звонкий цвет» – одно из любимых выражений Мавриной). Главная героиня мавринской живописи 30-х – конечно, сама энергия, ее вихри, которые завивают мир прихотливым водоворотом. Но сам этот мир, как будто, еще не осознает себя полностью, он ликует на ощупь, можно сказать, вслепую. То же – и в самых ранних ее дневниковых записях начала и середины 30-х, словно яркий свет солнца рвется сквозь жалюзи в темную комнату, тасуя ее реальность то празднично, то тревожно – очень личностно. |
 | Вторая половина 30-х годов предстают в ее дневниках как один бесконечный безоблачный летний день. «1937 год», – читаем мы и вздрагиваем по воспитанной в нас привычке. Но лета 37-го и 38-го годов – это первые летние месяцы с любимым человеком, поэтому они и исполнены бесконечного ликования. Впрочем, голоса извне, жестокий гул времени врываются и в этот мир. Она очень хрупка, эта идиллия, и стоит Кузьмину задержаться где-то, как Маврина впадает в панику, ею овладевает ужас почти физиологический (с мигренью), когда «из состояния благополучия выскакивала в какое-то сумасшествие» (с. 50). На мавринском рисунке одного из застолий – муж Н. Кузьмин, О. Гильдебрандт и ее вечный спутник Ю. Юркун. Этот «романтический» интимный друг поэта Михаила Кузмина и непременный персонаж богемной жизни 10–30-х гг. с такой корректно европейской внешностью скоро будет арестован и погибнет в застенке. |
 | О чем говорят эти люди, собравшись вокруг стола в мавринской тесной комнатке на Сухаревке?.. Вряд ли лишь об искусстве. Но пока тревоги эпохи вытесняло личное счастье художницы. * * * Выход в большой мир, «соединение с историей» произошли у Мавриной позже, в годы войны. Вдруг она поняла: вся эта любимая полуразрушенная краса московских улочек и церквей, и пряничное великолепие Лавры в Загорске, весь этот рукотворный праздник может уйти. Исчезнуть, и его нужно сохранить, хотя бы в рисунках. А рисовать тогда, в военной Москве, было небезопасно, человека с блокнотом могли принять за шпиона. Художница тренирует руку и глаз, учится работать вслепую, держа альбомчик в кармане пальто. Рисует и по памяти. Так, по памяти, ей удалось восстановить на листе прихотливое узорочье Василия Блаженного. Сколько патриотического и религиозного пафоса можно было бы навертеть вокруг этого естественного порыва увековечить любимое-прекрасное!.. Но нет, Маврина никогда не черпала вдохновение в отвлеченностях, в умозрительном. Ее вдохновение имеет простую (и единственно естественную) «причину» в любви (в широком смысле) и эстетическом любовании. «Проверяешь свой вкус, увеличиваешь количество лет, прожитых на земле, за счет бывшего когда-то» (с. 338), – так позже объяснит она свой горячий интерес к древней русской архитектуре, к иконописи, к народному искусству. |
 | Но в основанье – все же неистребимая потребность в радости и красоте, в ощущении жизни как праздника. Недаром так обрадовалась Маврина, найдя у историка Буслаева: «народность – это язычество», что, признается художница, «ответило моим тайным мыслям о Загорске» (с. 257). Таким вот яростно веселым, языческим капищем предстает в ее графике, гуашах и акварелях подмосковная цитадель православия… Этот праздник повторится и в произведениях об увиденном в других городах Подмосковья и Золотого кольца. При этом почти всегда под вечными звездами-облаками, возле древних стен – то теснится и галдит, то дремотно тянется жизнь ее современников. Все эти голенастые мужики в армейских обносках, толстые бабы в платках и ватниках, гигантские возы сена, обтекаемые кузова тогдашних голубых и желтых автобусов, – по этим картинкам будут изучать эпоху, жизнь (уходящую и уже ушедшую) русской провинции. Заметьте: почти везде у Мавриной горизонт взрыхлен куполами, маковками, облаками, косогорами, по которым на зрителя скатывается все это знакомое ему, но так преображенное великолепие. Художница порой не «доканчивает» изображение, оставляя контур без краски, приглашая поучаствовать мысленно зрителя в этом седом от древности и мимолетном, в этом вечном торжестве жизни, взобраться по тропам к сказочным воротам и башенкам. Она словно забрасывает горизонт за спину того, кто смотрит, включая его в круг изображенного. И сразу замечу: мороз ли с очумевшим оранжевым солнцем в зените, слепой ли летний серебряный ливень, – всегда эти стены, башни, люди, звери, машины, деревья и косогоры светозарно радостны. * * * А реальная жизнь была куда горше. Дневниковые записи военного времени при их порой ироничности (и почти всегда лаконизме) передают дух суровой поры: «18.10.41. …Достали 1/2 кило икры. Катерина (сестра Мавриной, – В. Б.) целый день простояла за хлебом. Эфрос вешался, но спасен» (с. 62). Это запись о том моменте, когда москвичи почти поверили, что их город не сегодня-завтра падет. А про икру – в самом начале войны черная икра была почти единственной едой, свободно продававшейся в магазинах столицы! Но скоро и ее подъели, и наступил настоящий голод: «27.2.42. …Ели кошку. Сначала я выплюнула, потом все же проглотила. Ощущение преступности и озорства», с. 65. В военных записях Мавриной масса интересных, подмеченных глазом художника деталей: «3.5.42. В Москве много лошадей с окраской коров и высоких солдат» (с. 69). Трагичны страницы о голодной зиме-весне 41–42 гг., когда силы оставляли, когда порой и любимый человек не выдерживал этих невзгод «тыла»: «Мне печально и досадно смотреть, как гибнет такая сильная и красивая душа от голода» (с. 67). Но в эти же дни Маврина умеет подметить забавное. 30 марта 1942 года она с мужем была на московской премьере 7-й симфонии Шостаковича в Колонном зале. Симфония, кроме магически сильного «марша», Мавриной не слишком-то глянулась (она вообще не жаловала нервную и жесткую музыку Шостаковича, предпочитая из современников С. Прокофьева). Зато художница смотрела на происходящее во все глаза: «Я оделась очень тепло, в валенки, и взяла теплый платок. Но зал был прекрасно натоплен, дамы причесаны, как королевы, еще достаточно жирные и красивые с голыми руками, в тонких чулках… Мои глаза чаще всего упирались в большой дамский профиль с блестящими серьгами. Серьга и глаз одинаково выражали ужас, и на это было смешно смотреть, у дамы двойной подбородок и декольте из-под горжетки. А больше тупых и спокойных лиц. Потом нас всех загнали в метро, где было очень тесно и душно. Чувство запертости – невыносимое. Тянулась тревога 3 часа» (с. 66). * * * Если идти по довольно богатой бытовой канве мавринских дневников, можно безнаказанно прибегнуть к штампу: «энциклопедия нашей жизни». Ну, не энциклопедия, так справочник, и очень ценный. Вот бег времени в этих коротких записях: «16.2.39. Завесила внутреннюю дверь-проем занавеской (это в тесной комнатке на Сухаревке, – В.Б.). Я ее вчера расписала цветами. Мир преобразился, все предметы зажили своей „маленькой жизнью“. Можно писать, как К. (Кузьмин, – В.Б.) умывается, как я встаю» (с. 55). «24.4.71. Две темы всегда держат разговор на неослабевающем интересе: у кого был сифилис из знаменитых людей и кто еврей» (с. 178). «21.11.75. В аптеке купила три пачки мяты, три флакона валерьянки и крем „Идеал“. Всё дефицитное» (с. 205). «1.12.89. Межрегиональная группа. К ней относится и Ельцин. Они выпускают какую-то листовку, считается кем-то прогрессивной. А может, наоборот?» (с. 239). «18.11.93. Навстречу идут два мастеровых с сушками – здороваются. „Здравствуйте!“ – „Добрый день“, – „Как живете?“ – „Живу ничего, спасибо„. Один прошел вперед по дорожке, а другой полез в карман… за бумажником, порылся в скудных „деньгах“ выбрал одну и дал мне. „Не надо, что вы! Не надо!“ – „Возьми, дорогуша. Возьми, пожалуйста“, – „Ну, ладно, возьму на счастье“. И разошлись. Дома посмотрела, в кармане 100 рублей» (с. 245). «22.11.93. Как же делают книжку компьютером???» (с. 246). Чем это всё не осколки зеркала, в которых достаточно полно отразилось небо эпохи, движение облаков на нем? Я уж не говорю о богатстве бытовых наблюдений военного времени, частью здесь уже приведенные… * * * Можно сделать выборку суждений Мавриной о литературе. Круг ее чтения всегда серьезен, обширен. К тому же сами Маврина и Кузьмин обладают несомненным даром слова, а литературные образы вплетаются в впечатления жизни: «Липа цветет и пахнет Фетом» (с. 31). Литературные вкусы художницы весьма определенны даже в своей противоречивости. Достоевского не выносит, всё с ним связанное считает подозрительным (думаю, весьма проницательно), но вот новая публикация раньше скрывавшегося от широкой публики текста, и – «колдун, колдун»! Строга и с Л. Толстым, пишет о нем враждебно-заинтересованно, как о близком знакомом: «4.1.71. Среди ночи мне стало очень ясно, что я не люблю, и очень не люблю Толстого, за нарциссизм, наверное, и за некрофилию. Он любовался, когда почти умирала жена. Всё я да я…, все эти рассуждения далеко заведут» (с. 186). Да что Толстой – и само «солнце нашей поэзии», так славно проиллюстрированное и Мавриной и Кузьминым, не избегает ее иронически-властного наскока: «6.3.74. Поживешь в мыслях с Пушкиным, чему-нибудь хорошему наберешься, а свое плохое позабудешь. А мне мое плохое, может, больше нравится» (с. 191). Под горячую руку Мавриной-читательнице лучше и классику не попадать: «18.1.70. Читаю Лорку и восхищаюсь всеми словами до одного. Нет мусору и болтовни Цветаевой и интеллигентных рыданий Блока» (с. 154). Из современников художница с увлечением читает Г. Гессе, Хемингуэя и особенно Сартра, Кафку, Камю, С. Моэма, а вот А. Грина и А. Сент-Экзюпери называет светлыми душами, «от которых делается скучно» (с. 115). Весьма сдержанно относится к советской литературе и ее творцам, чуя их плохое, ангажированное лукавство: «Читаешь Эренбурга. И почему-то не очень доверяешь» (с. 95). Эту странноватость, некую искаженность несвободой и комплексами, которые вели к созданию своих доморощенных мифов или реставрации безнадежно ушедшего, Маврина подмечает и в текстах, и в бытовых повадках тогдашних наших властителей дум. Восторженный гимназист мерещится ей в суждениях Лихачева о «русском», а замысловатый, но занятный актер – в творце «Русского леса» (с. 94, 95). Еще жестче отношение к тем, кто мог бы стать союзником (на почве увлечения русской историей и культурой). Но какие такие общие идеи у выученицы «французской школы» Мавриной могут быть с В. Солоухиным и другими нашими неославянофилами 60–70-х, которых ее муж Кузьмин пренебрежительно, подчеркивая их совковую посконноватость, называл славянофилами на «о»? Гораздо ближе сердцу Мавриной гении прошлого: Софокл, который «вершина до небес» и Шекспир, в «Короле Лире» которого – «раскрытая душа нации, черствой, злой, очень жестокой» (с. 215, 222). Сохраняет Маврина и читательскую привязанность к кумирам своей молодости, поэтам «серебряного века» – и к ощущавшему «космический разрез жизни» А. Белому и к Блоку, Блоковскому Шахматову Маврина посвятила целый альбом зарисовок и статью (ее вы тоже найдете в сборнике). Интересный момент: в своих статьях невольница советской цензуры Маврина намного скованней, чем в дневниках. Вот запись о Блоке от 28.3.73: «Лучше не смотреть на портреты Блока и лучше не читать о его жизни… Все это не в его пользу. Вылезает актерство, немецкий дух и пропадает очарование его молитвенных стихов» (с. 109). И уж точно 10 октября 1977 года Маврина озадачила собеседника вопросом: «А не кажется ли Вам, что Блок так и не стал взрослым, умер гимназистом?» (с. 213). * * * Но самые интересные страницы в этой книге – о живописи. Ее Маврина пристрастно делит на ту, что была до импрессионистов и, начиная с них, современную во всех ее вариациях. Старая живопись, кажется, не слишком волнует художницу. Во всяком случае, о мастерах Возрождения и нового времени нет почти ничего. Зато о любимых своих «французах» Сезанне, Гогене, Моне, Боннаре Маврина пишет с восторгом и благодарностью, хотя видит их очень по-своему. Даже трагический Ван Гог кажется ей исполненным яростного ликования. В них есть что-то языческое, как все насквозь по духу языческое – в Пикассо: «12.8.66. Пикассо – колдун, шаман и жрец. У него жизненной силы на десятерых… Чему научил Пикассо наше время? Изображать гадин, связывая это с гражданственностью и личным вкусом… Связывание в узлы всякой чертовщины» (с. 124). Столь же страстно, как «французами», увлечена Маврина и русской иконой, особенно провинциального письма, с массой бытовых подробностей (ее собрание икон досталось Третьяковке, а знаток жанра И. Грабарь заметил, что в этой коллекции нет ни одной посредственной вещи). Увлечение художницы совершенно свободно от «идеологии», от натужной религиозности младших ее современников, которые тоже в 60-е вдруг бросились собирать древние «доски», кто молясь на них, кто ими и прифарцовывая (впрочем, нередко совмещая приятное с полезным). Другое ее увлечение – народное искусство, городецкая живопись, расписные вологодские прялки, жизнерадостные лубки, которые «не хуже французов». Как совместить все это? Думаю, нужен глаз художника 20 века, его нюх на свежесть и подлинность, чтобы ухватить некий общий код в, казалось бы, столь разных по духу и времени явлениях. Напомню полулегенду: Матисс, увидя одну нашу северную икону, удивился: «Вы ездите к нам учиться, имея ТАКОЕ?!..» Суждения Мавриной о художниках-современниках (старшими из которых, хотя бы формально, можно считать В. Серова и Врубеля) – пристрастны, нелицеприятны, хотя, боюсь, слишком нередко и справедливы. Приведем некоторые, для остроты впечатления. «Серов махало и подчищало. Коровин хлещет пьяной рукой, иногда очень красиво, иногда банально. Врубель пишет с восторгом. Так именно говорят о нем хорошие люди… Мусатов как будто нарочно пишет миражно-туманно. А у Врубеля даже в самых ранних портретах точный глаз и верная рука» (с. 93). Кустодиев – «художник иногда громыхающий, но чаще ползущий» (с. 143). Сарьян превратил театральную декорацию в перл создания, в станковую живопись. Его звездный миг растянулся на годы с 1910-го по 20-й, «всё, что писано потом, его недостойно» (с. 100–101). Сомов, которого принято и теперь считать лишь певцом салонного эротизма, вызывает у нее восторг, выразившийся почти в парадоксе: «Это один из праведников, на которых держится русское искусство. Цветовик. Лучше Врубеля» (с. 162). А вот у его сподвижника А. Бенуа «много рацио, мало цвета, страсти» (с. 165). Отношение и к художнику и к отдельным его вещам порою изменчиво, порою неоднозначно. К. Петров-Водкин занимателен своей близостью к иконописному «ладу», но «бездушный сухарь»: «У него хороши чистые лица женщин. Мальчики на траве – какие-то онанисты. Он старый смолоду и мертворожденный „умник“. Умом понимаю, а сердцем – нет» (с. 112, 113). «Полет» и «Свадьба» Шагала кажутся ей суховатыми, хотя Маврина внимательно вглядывается в технику художника. Зато его иллюстрации к «Мертвым душам» восхищают, и здесь на восторженные слова автор дневника не скупится. Маврина очень цельна в своих пристрастиях, которые, кажется, сформировались у нее очень рано. Она отвергает и кропотливый натурализм Лактионова, и эксперименты абстракционистов, и трюкачество сюрреалистов. Филонова с его «лучизмом» Маврина готова бросить в мусорный ящик, С. Дали кажется ей откровенно скучным, а по поводу поп-арта художница может лишь плечами пожать, вообще выводя его за пределы искусства. Маврина неизменна в своей любви к Ларионову: «наш единственный „импрессионист“, француз по духу живописи и очень русский по темам и восприятию жизни… Где найти лучше» (с. 113). Строже к его жене Гончаровой: «менее одарена в цвете – цветистости больше и грубости. Иногда достигает ковровой красоты…, иногда впадает в некий мармелад… Но выбрать у нее красоты можно много» (с. 103). Себя Маврина не раз называла «ушибленной цветом», однако колорит никогда не был для нее самоцелью, не покупалась она на цветовую броскость саму по себе. «Яркой, умелой халтурой» кажутся художнице пейзажи Гималаев Н. Рериха, репродукции их Маврина отправляет в общую папку с творениями Р. Кента и И. Глазунова: «Пусть копится безвкусие» (с. 195). (От одного имени Ильи Глазунова ее, кажется, передергивает). При таком жестком подходе тем более не поздоровилось и многим ведущим советским художникам: Корин – «убогая безвкусица», мозаики Дейнеки – «позор и конфета», Г. Нисский – «пустышка» (с. 86) (и чуть дальше о нем: «Какое скудоумие и сколько претензий!», с. 123). Ю. Пименов – «изобильная пошлость… Эти его фифочки и каблучки, и талии», с. 123; короче, истинно салонный художник… * * * 17.10.73 г. Маврина записала: «Принесла книжку Подобедовой о графике от Бенуа до Гончарова. Нет Н.В. (Кузьмина, – В.Б.) Всё это партия Фаворского, его дело живет и по сей день. Графика, видимо, должна быть густая и черная, легкий штрих не в моде» (с. 186). С мэтром отечественной гравюры Маврина познакомилась еще в далекие 20-е, когда он возглавлял ВХУТЕМАС. Они принадлежали к очень разным направлениям: Фаворский ориентировался на немецкую жесткую графику, его увлекал лаконизм и монументальность художнического высказывания, Маврина предпочитала изобильных чувством, светом и цветом «французов». Они были антиподами, хотя каждый по-своему выражал дух времени. Тогда, в 60-е – начале 70-х, одерживала верх «школа Фаворского», которая во многом вдохновляла молодых художников – творцов «сурового стиля» начала 60-х гг. (О картинах одного из ярких представителей этого стиля П. Никонова Татьяна Алексеевна записала в сердцах: «Плакат не плакат, картина не картина. Куда ее, зачем ее? Кто ест эту черствую корку? Кто может любоваться этими „картинами“? Порождение Дейнеки», с. 86). Конечно, стиль Фаворского гораздо больше соответствовал имперскому апломбу официального искусства, дух строгой дисциплины линий, скрытая и полускрытая пафосность и одновременно холодноватая сдержанность в его выражении пришлись ко двору как сталинскому времени, так и молодым тогда «шестидесятникам», которые разрывались между поисками «правды», «истины» (совершенно в духе «оттепели») и официальной ангажированностью, ведь она и кормила и в каких-то своих ценностях тогда разделялась ими искренно. Говоря коротко, они были тогда людьми имперскими и советскими. Стремившейся к творческой и всяческой вообще свободе Мавриной это было глубоко чуждо. Человек иного психического склада, Кузьмин творчески разделял установки жены. И вот – «поплатился». (Но вкус времени и молодого поколения тогда требовал «анализа», глубокомыслия, «содержания». С. Довлатов где-то вспоминает, как он доказывал вдове актера Н. Черкасова поверхностность импрессионистов…) Конечно, нельзя говорить, что Маврину «затирали» и «не признавали». Она получила Государственную премию (чем, кажется, была весьма довольна именно как актом признания). Но Фаворский-то удостоился Ленинской!.. А если серьезней, то заочный спор «мужского» аскетичного и надличностно-пафосного (в лице произведений Фаворского) и «женского» лирического вольно-жизнелюбивого (в лице творений Мавриной) выиграла дама… Во всяком случае, в 70 – 80-е гг., когда у нас стало популярным новое «карнавальное» арт-направление, которое размывало строгую официальность советского искусства. Впрочем, это направление стало одним из истоков нашего последующего гламура. Но ведь халтурщиков и ремесленников всегда больше, чем настоящих художников! Об этом и сама Маврина записала 11 декабря 1962 г.: «Ремесленная хлесткость – самое модное сейчас требование для художника. Часто говорят „сделано профессионально“ – как будто не видали этот внешний лоск или очень уж по нему соскучились… Искусство – это все-таки не одна „легкая рука“» (с. 88). |
 | * * * Мы без конца твердим о «празднике» и роскоши цвета у Мавриной, как будто творимый ею мир – безоблачная идиллия, именно что «конфета». Вовсе нет! Благодушие ей и как человеку и как художнику, видим, не свойственно. Но где же у нее в этом самом празднике зло, где тени жизни?!.. Отвечая, я бы так выкрутился: добро и зло, свет и тьма – категории, так сказать, анализирующего сознания. Маврина же – «язычница», которая предпочитает анализу синтез, но синтез при этом мудрый и сложный. Посмотрите, например, на ее натюрморт 1995 г. «Розы ночью». Небо – «тесное от звезд» (выражение Мавриной), темные розы осоловели от собственной роскоши, окна в соседнем доме ярко желтеют, и даны тем же цветом, что и луна очень странной формы. Луна здесь похожа то ли на зловещий и таинственный лик, то ли на неизведанный материк, изрезанный ветвями черных деревьев. И какой инфернальный оскал голубовато-зеленоватой витрины, совершенно чужеродной в этом бархатном таинственном, таком живом мире, словно она здесь – вставная челюсть!.. Почему-то вспоминается еще запись в ее дневнике: одну из детских книг с иллюстрациями Мавриной покупали сперва неохотно: звери больно страшные, не звери-игрушки, а звери-духи языческие. (Вспомним заодно и ее отзыв о Пикассо – «колдуне, шамане», и радость от подтверждения ученым своего художнического восприятия народности как язычества). |
 | Так она и творческий импульс рассматривала – как зов и долг увековечить бесследно исчезающую красоту жизни: «Всё, что я люблю и рисую, исчезнет, уже исчезает, надо сохранить» (с. 127). 26 ноября 1973 года Татьяна Маврина подвела предварительный итог своего творческого пути: «10 лет писала – написала прекрасные вещи, и хватит с меня… Я не считаю бахвальством восхищаться этими холстами. Они хороши… То, что делаю сейчас, – умелая рука и рабский труд» (с. 188). Но впереди оставалась почти четверть века жизни и творчества, богатого свершениями. И как хорошо, что эта книга хотя бы немного и текстом своим и прекрасными иллюстрациями приближает нас к художнице, – вернее, нам Маврину возвращает, потому что переиздание ее альбомов назрело. А мой затянувшийся очерк хочется завершить словами Татьяны Алексеевны Мавриной: «Читаешь, читаешь, а это занятие против живописи ничего не стоит. В этой жизни, на этой земле лучше всего глядеть» (с. 118). |
Валерий Бондаренко
 Цвет и тени Татьяны Мавриной
Цвет и тени Татьяны Мавриной