 |
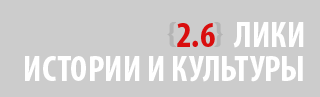 |
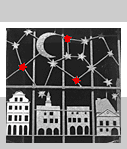 |
|
|
Читателям
|
 | Кобринский А.А. Даниил Хармс. – М.: Молодая гвардия, 2008. – 501. с., ил. – (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1117) Коварная вещь – слава посмертная! Боюсь, самому широкому читателю Д. Хармс известен, прежде всего, анекдотами о Пушкине, Гоголе и Л. Толстом, «который очень любил маленьких детей». И хотя, конечно, сама идея цикла и несколько историй – да, «от Хармса», основной блок анекдотов сочинили в начале 70-х журналисты Н. Доброхотова и В. Пятницкий. А если мы вспомним с детства знакомые всем стихи о чижах – то и тогда далеко не всякий назовет имя их автора: Даниил Иванович Ювачев (Хармс). Впрочем, таких незнающих, но «употребляющих» читателей, слава богу, все меньше. И все больше Даниил Хармс осознается нами как одна из ключевых фигур отечественной словесности прошлого века. 500-страничный труд А. Кобринского – вероятно, самая полная на сегодняшний день биография Хармса. Автор всячески подчеркивает жанр своей книги, приводя массу цитат из документов эпохи. Быть может, рядовой читатель на каких-то из этих страниц подувязнет в суконном и душном стиле сталинского официоза. Зато еще яснее станет, КАКИМ диссонансом с мейнстримом того времени были личность и творчество писателя Хармса. * * * Вообще, такое впечатление, что сама жизнь поставила на обэриутах и особенно на их вожде Данииле Хармсе жестокий, но важный для потомков эксперимент. 20-е годы, время их становления и дебюта, – это уже не серебряный век с его свободой творческих поисков, хотя новации 20-х годов сами по себе «круче» и неожиданней. Однако следующая эпоха неумолимо сузила возможности свободного проявления в искусстве как на уровне содержательном, так и в области формотворчества. Для литераторов все это завершится учреждением Союза писателей. Государство присвоит себе монопольное право регламентировать творческий процесс. Но обэриуты (и Хармс в частности) оставались во многом литературными маргиналами – и это позволило им сохранить творческую свободу. То есть, на их примере можно проследить, как бы развивалась наша литература, имей она ту же свободу исканий, что в 10-е и в начале 20-х гг. Конечно, обэриуты – это лишь одно из направлений, сформировавшихся в 20-е гг., причем направление при самом своем рождении не могшее стать сколько-нибудь массовым. И все же ветры завтрашнего дня бродили в душах именно этих людей! Даниил Хармс развивается в 30-е уже годы настолько интенсивно, что теперь даже духовный отец обэриутов В. Хлебников кажется ему отходящим в 19 век, чудится «чересчур книжным». А. Кобринский точно подмечает: пафос эстетики обэриутов состоял в том, чтобы вернуть слово поэта из туманов символизма в полновесный реал жизни. Причем в определенном смысле слово мыслилось ими таким же реалом, как, скажем, камень. «Стихи надо писать так, что если бросить стихотворением в окно, то стекло разобьется», – мечтал Хармс. И записал в апреле 1931 г. в дневнике: «Сила, заложенная в словах, должна быть освобождена… Нехорошо думать, что эта сила заставит двигаться предметы. Я уверен, что сила слов может сделать и это» (с. 194). «Стихи, молитвы, песни и заговоры», – вот те формы существования слова, организованного ритмом и наполненного харизмой жизни, что привлекали Даниила Хармса. И в этом смысле стихи для детей у него были не только ради заработка (как, например, у его ближайшего сподвижника А. Введенского). Это была вполне органическая форма творческого выражения. * * * Хотя самих детей (как стариков и особенно старух) Хармс не переносил. На абажуре своей настольной лампы он собственноручно нарисовал «дом для уничтожения детей». Е. Шварц вспоминал: «Хармс терпеть не мог детей и гордился этим. Да это и шло ему. Определяло какую-то сторону его существа. Он, конечно, был последним в роде. Дальше потомство пошло бы совсем уж страшное. Вот отчего даже чужие дети пугали его» (с. 287). Кобринский добавляет свою версию: «Возможно он (Хармс, – В. Б.) инстинктивно ощущал их (стариков и детей, – В. Б.) приближенность к смерти – и как с одного, так и с другого конца» (с. 288). Вообще перечень того, что Хармс любил и что не выносил, создает парадоксальный, но и парадоксально целостный образ. Занимали его: «Озарение, вдохновение, просветление, сверхсознание. Числа, особенно не связанные порядком последовательности. Знаки. Буквы. Шрифты и почерки… Всё логически бессмысленное и нелепое. Всё вызывающее смех и юмор. Глупость… Чудо… Хороший тон. Человеческие лица» (с. 284). Омерзительны же были: «Пенки, баранина,… дети, солдаты, газета, баня» (с. 285). Последняя – поскольку унизительно обнажает телесные уродства. Эрнст Кречмер, в те же примерно годы работавший над своей классификацией психотипов, отнес бы Хармса к выраженным шизоидам. Это люди острой индивидуальности, которые держат дистанцию с окружающим миром, пересоздавая импульсы, идущие от него, в нечто порой крайне оригинальное, а в случае особой одаренности – и в нечто весьма глубокое и значительное. Шизоидный склад натуры поможет в дальнейшем Хармсу прибегнуть к симуляции психического заболевания (об этом ниже). А пока столкновения с советским миром – миром, пронизанным токами грубого коллективизма, духом коммуналки, общаги, казармы, камеры – приводили порой к забавнейшим творческим результатам. Вот, например, строевая «песня», которую по просьбе командира сложил рядовой Ювачев, проходя срочную службу (пунктуация автора): Чуть на двор Мы пришли 7 марта Встали встали встали в строй Мы к винтовке прикрепили Штык и Наша рота лучше всех. А вот «Первомайская песня», написанная уже зрелым поэтом Хармсом для детского журнала «Чиж» в 1939 г.: Мы к трибуне подойдем, Подойдем, Мы к трибуне подойдем С самого утра, Чтобы крикнуть раньше всех, Раньше всех, Чтобы крикнуть раньше всех Сталину «ура». (с. 131) Творческое несовпадение Хармса с советской действительностью дополнялось и несостыковкой на бытовом даже уровне. Так, Даниил Иванович Ювачев придумал себе особый энглизированный облик (кепи, гольфы, гетры, трубка), за что летом 1932 г. постоянно подвергался обструкции на улицах провинциального Курска, куда был сослан. Поклонник немецкой и английской культуры, он и псевдоним себе выбрал, созвучный с фамилией любимого литературного героя – Шерлока Холмса. * * * Да, Хармс был человек-парадокс! Глубоко верующий, он, формально будучи православным, позволял себе мистицизм совершенно протестантского свойства: письма и записочки напрямую к богу! Авангардист в искусстве, он сохранял преданную любовь к самой «классике-классике»: к Пушкину и Гоголю, к Баху и Моцарту. С годами тяга к классическим образцам только усилилась. В них зрелый Хармс видел проявления истинной жизненной силы. Это вело к размолвкам с некоторыми ближайшими единомышленниками. Кобринский приводит сухой отзыв А. Введенского на шедевр позднего Хармса – повесть «Старуха»: «Я же не отказался от левого искусства» (с. 434). Введенский намекал на то, что в повести слишком явны мотивы «Пиковой дамы» и «Преступления и наказания», да и сама художественная ткань при всей сюрности замысла «чересчур» (для авангардного произведения) реалистична. Для Хармса движение в сторону традиции естественно уже хотя бы как для истого петербуржца и демонстративного «западника». Но здесь мы сталкиваемся с моментами и более общего плана. Еще Т. Манн и Г. Гессе заметили: самые отъявленные творцы авангардного искусства 20 века порой кончали убежденными «классицистами» или уж, во всяком случае, остро, тонко и более чем почтительно воспринимали и использовали классическую традицию. Пруст и Пикассо, Дали и Прокофьев, Матисс и Стравинский (да и сами Гессе с Т. Манном)… В эволюции Хармса-писателя лишь проявляется общая, кажется, так до конца и необъясненная эта «почти закономерность». И опять парадокс! Живя практически в изоляции от жизни мировой культуры 30-х гг., обэриуты бились над той же проблемой, что и западные интеллектуалы: над проблемой языка как средства коммуникации. Эта тема во многом определила эстетику, политику, идеологию и информационные технологии наших дней. «Хармс вместе со своим другом Введенским стал родоначальником литературы абсурда, которая представляет собой не тотальное отсутствие смысла, а наоборот – иной, не укладывающийся в обыденную логику смысл, разрушающий, как правило, устоявшиеся логические связи» (с. 417). Увы, за такую продвинутость приходилось платить даже в относительно свободные 20-е гг.! После первого публичного выступления Д. Хармса (январь 1927 г.) родные ликовали: «Всё нормально, и Даню не побили» (с. 126). * * * По иронии судьбы, Хармс дрейфовал в сторону литературной традиции вместе со всей нашей культурой 30-х гг. ВНЕШНЕ этот дрейф в какой-то степени совпал с вектором развития литературы сталинской империи, каким его обозначил в начале 30-х годов Первый съезд советских писателей. Принципиальным отличием было то, что Хармс шел к классической традиции независимо от указаний и мнений сверху и сохранял абсолютную творческую свободу в ее понимании. И уже одно это делало его диссидентом в глазах властей. Впрочем, в начале 30-х он еще числился в стане ультравангардистов. Волна репрессий накрыла Хармса и его друзей в числе первых и раньше многих и многих, как раз в разгар борьбы за единообразие нашей словесности. В декабре 1931 года Хармса и его товарищей арестовали. Вал репрессий только набирал силу, и это спасло их: кара была довольно легкой. Из песни слова не выкинешь: А. Кобринский утверждает, что немалая вина за арест лежит на И.Л. Андроникове, тогда близком кругу обэриутов. «Если все остальные арестованные прежде всего давали показания о себе, а уже потом вынужденно говорили о других, как членах одной с ними группы, то стиль показаний Андроникова – это стиль классического доноса» (с. 216). Кстати, Андроников был единственным из проходивших по делу, кто никак не пострадал. 4-месячная ссылка в Курск – конечно, далеко не самая страшная из возможных тогда кар. Но и ее Хармс пережил достаточно тяжело. «Мы из материала, предназначенного для гениев», – заметил он как-то (с. 282). А гений, по мысли Хармса, обладает тремя свойствами: властностью, ясновидением и толковостью. Уже тогда он слишком понимал, куда влечет всех рок событий… * * * В страшном 1937 году в третьем номере детского журнала «Чиж» вышло стихотворение Д. Хармса «Из дома вышел человек». Теперь исследователи находят в нем парафраз интересовавших Хармса идей философа А. Бергсона. Но тогда эпоха поместила эти стихи в совершенно иной смысловой контекст, сделала чуть ли не политической сатирой. Вы только послушайте: Из дома вышел человек С дубинкой и мешком И в дальний путь, И в дальний путь Отправился пешком. Он шел все прямо и вперед И все вперед глядел. Не спал, не пил, Не пил, не спал, Не спал, не пил, не ел. И вот однажды на заре Вошел он в темный лес. И с той поры, И с той поры, И с той поры исчез. Но если как-нибудь его Случится встретить вам, Тогда скорей, Тогда скорей, Скорей скажите нам. (с. 381) Именно так среди бела дня «исчез» для близких один из талантливейших друзей Хармса Н.М. Олейников. Увидев его как-то поутру, знакомая метнулась, было, с ним поздороваться. Но тотчас увидела двух человек, которые сопровождали его. Взгляд Олейникова подтвердил ужаснувшую ее догадку… Через пять месяцев поэта Олейникова казнили. В эти месяцы и сам Хармс ждал беды, ждал ареста. Его жена Марина Малич вспоминала: «Он предчувствовал, что надо бежать. Он хотел, чтобы мы совсем пропали, вместе ушли пешком в лес и там бы жили» (с. 382). Тогда Хармса не арестовали, но от литературы отлучили: запретили печатать. Наступили годы отчаянной нищеты, настоящего голода. Помножьте это на творческий кризис, который Хармс переживал тогда! Впрочем, кризис этот был какой-то странный. Не то, чтобы совсем не писалось: иссякли стихи. Зато прозаические тексты являлись весьма нередко. Собственно, это был кризис «перестройки» – кризис творческого взросления и уход в новые жанры. А тучи сгущались не над одним Хармсом. Он остро чувствовал приближение военной опасности. Буквально за несколько дней до возможного призыва на фронт (30 ноября 1939 г. началась война с «финляндской козявкой») ему удалось получить белый билет. Для этого Хармсу пришлось разыграть психическое расстройство. Писатель понимал свою несовместимость с военной службой. «В тюрьме можно остаться самим собой, а в казарме нельзя, невозможно», – повторял он (с. 444). * * * За 12 дней до начала Великой отечественной войны Даниил Хармс пишет свой последний и самый жестокий рассказ «Реабилитация». Это, возможно, первый по времени и уж точно блистательный образчик черного юмора на русском языке: «Не хвастаясь, могу сказать, что, когда Володя ударил меня по уху и плюнул мне в лоб, я так его хватил, что он этого не забудет. Уже потом я бил его примусом, а утюгом я бил его вечером. Так что умер он совсем не сразу. А Андрюшу я убил просто по инерции, и в этом я себя не могу обвинить… Меня обвиняют в кровожадности, говорят, что я пил кровь, но это неверно. Я подлизывал кровяные лужи и пятна – это естественная потребность человека уничтожить следы своего, хотя бы пустяшного, преступления. А также я не насиловал Елизавету Антоновну. Во-первых, она уже не была девушкой, а во-вторых, я имел дело с трупом, и ей жаловаться не приходится… Таким образом, я понимаю опасения моего защитника, но все же надеюсь на полное оправдание» (с. 466–467). Можно, конечно, смеяться. Но, возможно, так непривычно тогда расширяя рамки принятого в нашей литературе, Хармс напророчил и кровавое месиво, призрак которого уже навис над современниками и станет для них реальностью меньше, чем через 2 недели?.. Предчувствовал Хармс и час своего ареста. 23 августа 1941 года он был «взят» сотрудниками НКВД у себя на квартире. В том, что признанный психически нездоровым Д.И. Ювачев-Хармс попал в поле их зрения, – «заслуга» осведомительницы. Она донесла в «органы» о критических высказываниях писателя в адрес Советской власти. Теперь мы знаем имя этой дамы. Ее звали Антонина Оранжиреева (урожденная Розен). В послевоенные годы она станет «наседкой» при Анне Ахматовой, и та тоже не разгадает это создание. Когда Анта Оранжиреева умрет в 1960 году, Ахматова посвятит стихи ее памяти: Памяти Анты Пусть это даже из другого цикла… Мне видится улыбка ясных глаз, И «умерла» так жалостно приникло К прозванью милому, Как будто первый раз Я слышала его (с. 483) По милости милой Анты, Хармса привлекли к следствию. В декабре 1941 года он был помещен в психиатрическое отделение тюремной больницы при «Крестах». 2 февраля 1942 года, в самое лютое для блокадников время, Хармса не стало. Удивительна судьба его вдовы. Из блокады Марина Малич попала в эвакуацию, из нее – в оккупацию, оттуда – в эмиграцию. Во Франции она познакомилась, наконец, со своей матерью, которая бросила ее в детстве. Никакие моральные обязательства не связывали Марину с родительницей, и Малич вышла замуж за… ее супруга, своего отчима Вышеславцева. Затем она переехала с ним в Венесуэлу, где ее третьим (после Хармса и Вышеславцева) мужем стал представитель старинного дворянского рода Ю. Дурново (впрочем, и Малич по бабке была из Голицыных). В 1997 году сын перевез ее в США, где Марина Малич и умерла в 2002 г. на 90-м году жизни. Судьба подтвердила ей правоту слов Даниила Хармса, когда-то сказавшего, что чудес на свете больше, чем она думает. К сожалению, чудом в судьбе самого Хармса стало лишь его творчество… * * * Как и всякий жанр, биография имеет свои ограничения. Вне рамок книги Кобринского остался более широкий контекст мировой и отечественной литературы, в котором творчество Хармса приобретает дополнительное значение. Хотя, оставаясь на чисто биографическом уровне, Кобринский довольно подробно говорит о сложных сближениях-расхождениях обэриутов с крупнейшими поэтами того времени В. Маяковским и Б. Пастернаком, с филологами Б. Эйхенбаумом и В. Шкловским. Но совсем не сказано и о влиянии Хармса на отечественных писателей постмодернистского поколения, ведь здесь не ограничилось дело одними «хармсятами», как назвал его позднейших незадачливых эпигонов некий литературный авторитет. Конечно, такие изыскания больше подходят научному исследованию. Но творчество Хармса настолько еще живо и важно для наших современников, настолько оригинально (а порой рождает споры и сам факт его влияния), что обойти это молчанием вряд ли стоило. И все же в целом создан убедительный и интересный портрет замечательного писателя в раме его эпохи. Благодаря этой книге Даниил Хармс становится для широкого читателя не именем и не мифом, а живым человеком. И это – главное. |
Валерий Бондаренко
 Даниил Хармс: «Говорю, чтобы быть»
Даниил Хармс: «Говорю, чтобы быть»