 |
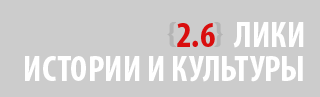 |
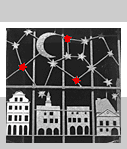 |
|
|
Читателям
|
А Англия щедра, сдружившись с шаром, С нив тучных злаки все она собрала даром. Евангелия свет – мы мыслим с коих пор – Над Англией одной спаситель распростер, – так не без насмешки излагает автор «Робинзона Крузо» официальное кредо Британии начала XVIII столетия (Д. Дефо, «Чистокровный англичанин»). О, мы увидим, как много в этих словах и правды, и неправды! До того много, что они рождают споры по сей день. Собственно, споры рождает сама модель «прогресса по-английски», которая сложилась в XVIII веке и которую наши младореформаторы попытались дословно использовать в 90-е годы века прошедшего. Тогда у нас азартно предположили, что следует слепо копировать все первородные примочки и заморочки «дикого капитализма», которые, якобы, а) итак неизбежны и б) всенепременно выведут нас через темный и страшный туннель «естественного» социального отбора к безмятежным полям современного процветания по западным (англосаксонским, прежде всего) образцам. Или, как недавно сказал один наш известный банкир: «Мы хотим быть с успешными!» Но в универсальности и беспроигрышности этих образцов и этой модели у многих с тех пор появились сомнения… Мы, со своей стороны, лишь обрисуем здесь в кратком очерке жизнь и нравы Британии эпохи дикого капитализма, используя мнения и доводы как апологетов его, так и критиков. Сразу оговоримся: однозначные выводы нам сделать вряд ли удастся. Итак, Туман вокруг Альбиона Неверно думать, что до начала XVIII века Британия числилась среди наиглавнейших европейских держав. Относительно скромная численность населения (в три раза меньше, чем в тогдашней Франции) и отделенность морем делали Альбион как бы запасным игроком европейской «la politique». Даже казнь короля Карла I его подданными (первое в европейское истории мероприятие подобного рода) не сотрясло Европу. «Мировая премьера» Британии как великой державы случилась лишь в 1697 году, когда английский посол граф Портленд явился в Версаль с необычайной помпой и шокировал короля-солнце пренебрежением к деталям подробного французского этикета. А дальше пошло по нарастающей. Все чаще и все успешнее выступали англичане на европейской политической сцене, вынашивая уже планы реванша и «в мировом масштабе». Близилась пора сколачивания колониальных империй. В первой половине XVIII века британцы отхватили у испанцев Гибралтар, у французов – Индию и Канаду. И уже в 20-е гг. XVIII века континентальная Европа обнаружила, что эти странные англичане на своем туманном гриппозном острове создали оригинальную экономическую и социальную систему, и именно в ней кроются причины небывалых британских успехов. Первыми оценили открытия англичан философы. Все французское Просвещение в самом существенном есть лишь блестящее развитие и изложение идей британских мыслителей. «Народом философов» уважительно называл англичан Вольтер. («Народом лавочников» британцев прозвали на континенте чуть позже). И все же образованный (читай: офранцуженный) европеец галантного века немилосердно царапался о своеобычные шипы островной розы. Эту странноватую (диковатую?) «особость» британского быта и склада блестяще высмеял герой Бомарше. Помните? «Дьявольщина! До чего же хорош английский язык! Знать его надо чуть-чуть, а добиться можно всего. Кто умеет говорить god-dam, тот в Англии не пропадет. Вам желательно отведать хорошей жирной курочки? Зайдите в любую харчевню, сделайте слуге вот этак (показывает, как вращают вертел), god-dam, и вам приносят кусок солонины без хлеба. Изумительно! Вам хочется выпить стакачик превосходного бургонского или же кларета? Сделайте так, и больше ничего. (Показывают, как откупоривают бутылку). God-dam, вам подают пива в отличной жестяной кружке с пеной до краев. Какая прелесть! Вы встретили одну из тех милейших особ, которые семенят, опустив глазки, отставив локти назад и слегка покачивая бедрами? Изящным движением приложите кончики пальцев к губам. Ах, god-dam! Она вам даст звонкую затрещину – значит, поняла. Правда, англичане в разговоре время от времени вставляют и другие словечки, однако нетрудно убедиться, что god-dam составляет основу их языка». Но уже 20 лет спустя другой иностранец, наш Карамзин, пишет об английских нравах с почтением, противопоставляя их «порочным» и «гибельным» французским, а Пушкин заявляет, что его Таня «проканала» бы и в «высоком лондонском кругу»… Хотя как раз «высокий лондонский круг» не столько перестал к тому времени быть вульгарным (по мнению еще Вольтера), сколько сделал благодаря росту британского могущества свою вульгарность престижным лейблом. Ведь люди, в конце концов, и впрямь хотят быть, прежде всего, «вместе с успешными»… Покинем, однако, раззолоченные салоны и нырнем в чадные низины экономики, – туда, к истинным корням «британского чуда». (А к манерам вернемся в самом конце этого очерка). | |
 | Революция внутри эволюции «Доброй» назвал французскую историю Алексей Николаевич Толстой. Эксцессы вроде Варфоломеевской ночи или якобинского террора случались в ней довольно редко. Средневековая английская история куда кровавей: в XV веке старая английская знать сама себя вырезала в бесконечных междоусобицах и вообще поставляла Шекспиру массу материала для его трагедий. Однако к началу нового времени кровавое это цунами спало. Особенностью английской истории XVIII–XIX вв. стало то, что глубочайшие перемены и сдвиги в ее экономике и социальном бытии не привели к катастрофам, хотя имели глобальное значение для истории всего человечества. Выражаясь фигурально, Британия в это время пережила несколько революций внутри своего относительно мирного эволюционного движения. Это отмечали главные критики дикого капитализма К. Маркс и Ф. Энгельс. Разбирая книгу историка Гизо об английской революции, они писали: «Там, где г-н Гизо видит только тишину и спокойствие мирной идиллии, там в действительности развертываются самые острые конфликты, самые глубокие перевороты… Исчезают целые классы населения, вместо их появляются новые классы, с новыми условиями существования и с новыми потребностями» (К. Маркс и Ф. Энгельс, т. 7, с. 223). Но абсолютного блага в этих переменах классики марксизма не видят. Прогресс жесток, последствия его и самый его процесс далеки и от идиллии и от позитива, – эту истину история кровавыми рубцами написала на шкуре английского народа как раз в эпоху дикого капитализма. (Временное заблуждение о благостности прогресса пришло вместе с позитивизмом век спустя и было почти сразу опровергнуто опытом войн и революций века XX-го). Экономический прогресс под пером К. Маркса и Ф. Энгельса оказался чреват социальной трагедией для трудящихся. Впрочем, более объективный анализ приведет нас к выводам, скорее, констатирующим, нежели морализирующим. Вот, например, знаменитые «огораживания», то есть насильственный захват общинных земель у крестьян их помещиками. Если еще в XVI веке такое рейдерство рассматривалось как противозаконное, ибо нарушало нормы древнего германского права, то в XVIII веке парламент узаконил его. Это имело два важнейших последствия, которые тоже весьма неоднозначны. С одной стороны, «огораживания» привели к созданию крупных ферм, где сельское хозяйство велось передовыми методами и решило в итоге продовольственную проблему, всегда острую для Британии. С другой, бросили массу разоренных крестьян в города, на рынок рабочей силы для растущей промышленности или выпихнули их в колонии. (Без чего не состоялась бы глобальная Британская империя). Консервативный английский историк Дж.М. Тревельян свидетельствует: «Огромный рост продуктивности сельского хозяйства на острове, имевший место в то время (благодаря победе крупного землевладения за счет вытеснения мелких с/х производителей. – В. Б.), оказался необходимым вследствие быстрого увеличения его населения, которое в те дни невозможно было прокормить привозным продовольствием» (с. 339). (Что, к слову, не помешало страшным голодовкам в Ирландии век спустя или беспрецедентной «антинациональной» подлости землевладельцев в начале XIX столетия, в годы, когда Англия подверглась Наполеоном политике «континентальной блокады». Цены на хлеб взлетели тогда вверх, – одни наживались, другие голодали). Но, несмотря на все эти гримасы, население Англии за XVIII век действительно весьма увеличилось, почти в 2 раза (с 5 до 9 млн. человек). Этот взрыв, по-Тревельяну, во многом произошел и за счет улучшения медицинского обслуживания: новые методы лечения, появление первых роддомов в Лондоне уже в конце XVII века. Даже болезненный процесс перехода от мануфактурного производства к фабричному, – даже этот тяжкий для бедняков процесс не смог сбить волну рождаемости! Как ни отвратительны были язвы дикого капитализма, британский народ проголосовал за него даже не кошельком, а… чем-то гораздо более природным… *** С/х революция и революция в промышленности имели и предтечей и последствием развитие транспорта и торговли. Но неизбежным (временным) следствием социальных перемен стал также взлет преступности. Первое впечатление Н. Карамзина на британской земле – это как его обчистил карманник… А кстати, и о финансах. Развитие финансовой системы страны привело к учреждению в конце XVII века Банка Англии. Возвратившиеся в страну евреи (изгнанные еще в конце XIII века) вкупе с прижимистыми, но крайне «честными» (Тревельян) банкирами-квакерами укрепили английский фунт. Правда, никакие сверхнабожные квакеры не спасли британского обывателя от соблазна поучаствовать в финансовых аферах. Крупнейшая из них – афера с акциями Компании Южных морей. Ее основатели (1701 год) перекупили у испанцев позорное право на монопольную работорговлю в Южной Америке. К такому святому делу приложило руку и правительство, подключив эту компанию к финансированию государственного долга. Акции работорговцев взлетели вверх в десять раз в течение 1720 года. Однако афера лопнула, и масса рядовых вкладчиков разорилась. Участие правительства в этой плутне придало скандалу политическую окраску, в воздухе запахло бунтом. Проворовавшиеся чинуши вынуждены были уйти в отставку (но реального наказания избежали). А на политическом горизонте взошла звезда ловкого их спасителя Роберта Уолпола – первого в истории страны премьер-министра и вряд ли самого последнего в ней же взяточника. Впрочем, сверхпузатая фигура Р. Уолпола столь колоритна, что подробней мы рассмотрим ее чуть позже. А здесь, итожа главу, лишний раз удивимся, что британский народ сумел, претерпевая от прогресса по полной, его все же вытерпеть и в исторической перспективе получить от этого огромные дивиденды. Здравый ли смысл помог сему, но, в любом случае, эти выгоды получило не то поколение, что «терпело». Да и пришли дивиденды в следующем столетии вместе с новыми проблемами… *** Зато уже в XVIII веке англичане по-новому взглянули на экономику. Раньше экономисты полагали: а) состояние производительных сил и сумма богатства в мире в принципе неизменны; б) главная цель и смысл экономической политики государства (считай – короля) – пополнение его золотого запаса; в) поэтому государство должно всемерно регулировать экономику и вмешиваться в нее. Этой «сундучной» экономике королевской казны Адам Смит противопоставил свою концепцию. По ней выходило, что: а) состояние производительных сил меняется, они развиваются; б) двигателем прогресса является производительность труда, а мерилом реального богатства – произведенный продукт; в) поэтому государство не должно лезть в экономику, ибо она – естественный процесс, данный богом человеку для пропитания. Взгляды А. Смита вошли в сознание современников. Даже наш вечно праздный Онегин стал «глубокий эконом». Помните: То есть умел судить о том, Как государство богатеет, И чем живет, и почему Не нужно золота ему, Когда «простой продукт» имеет. Либеральная экономическая концепция А. Смита в той или иной форме оказывает влияние на жизнь и политику и в наши дни: так называемый «тэтчеризм». Политический маятник Ну а теперь госпожа Политика и первый английский премьер Роберт Уолпол (в будущем – первый граф Орфорд). А впрочем, нет! Соблюдем ранги, и сначала о королях. Со смертью в 1714 году королевы Анны Стюарт, не оставившей прямого потомства, британский престол оказался вакантным. Собственно, наибольшее право занять его было у Якова Стюарта, сына свергнутого «славной революцией» 1688 года Якова II. Но принц был католиком и жил во Франции, – главной сопернице Альбиона. Посему парламент передал корону 54-летнему Георгу Ганноверскому. Тот, во-первых, был протестантом, а во-вторых, незначительным немецким князьком с соответствующим его владениям кругозором. Словом, удобная пешка на шахматной доске британских политиканов. Нужды не было, что Георг в списке законных претендентов занимал скромное 59-е место… Политики не ошиблись в своих расчетах. Ни Георг I, ни сын его Георг II не вмешивались в их дела, всецело занятые своими кукольными германскими владениями. (Георг I даже английского языка не знал). Так в британской политической жизни окончательно утвердилась формула: «Монарх царствует, но не управляет». Английская элита выработала такую устойчивую политическую систему, что никакие события при дворе уже не влияли на жизнь королевства. Когда Георг III в 1789 году сошел с ума, англичане этого как бы и не заметили, – и «процарствовал» полоумный старик до самой смерти, аж до 1820 года! (Бедный Георг! В лиловом халате, с отпущенной бородой, с орденом Подвязки как единственным знаком своего сана он бродил по любимому Виндзору, то обнажая интимные места и грезя о любовницах, то «отправляя» на эшафот (мысленно) непослушных своих сыновей. О том, что Европа охвачена войнами, о том, что Британия вышла из них победительницей и стала «мастерской мира», король, кажется, так и не узнал… В память о нем один из лондонских дворцов-музеев – маленький Кью – дает современным туристам возможность услышать голоса членов английской королевской семьи, как, наверно, слышались они безумному государю…) Между тем, в первой половине XVIII столетия ни Стюарты, ни стоявший за ними Версаль не оставляли попыток сокрушить Ганноверскую династию. Последняя, самая опасная попытка пришлась на 1745/46 гг. Внук Якова II Карл-Эдуард высадился в Англии и несколько месяцев держал в страхе Лондон. В столице началась паника, все бросились изымать вклады из банков, – и паникерам пришлось несладко: деньги им выдавали шестипенсовыми монетами! Тогда-то и родился клич, ставший позднее британским гимном: «Боже, храни короля!» Однако Претендент не получил обещанной помощи ни от французов, ни от местного населения. Правительственные войска герцога Камберленда разбили его сторонников и на месте решающей битвы устроили форменную зачистку, пройдя по селам и полям огнем и мечом, – таков был страх элиты перед возможной переменой ее судьбы!.. Итак, режим устоял, что говорит об его эффективности… *** |
 | Вернемся теперь к сэру Р. Уолполу. Звезда этого шумного, веселого сквайра, отчаянного сквернослова и взяточника, этакого Фальстафа в пудреном парике, взошла в 1721 году в связи с расследованием коррупции министров, замешанных в афере Компании Южных морей. Уолпол был призван отмазать их, что с успехом и сделал, а в народе получил прозвище Заслон. Роберт Уолпол сыграл огромную роль в оформлении новой политической системы. Как челнок, этот пузан неутомимо курсировал между двором (общеизвестен его роман с женой Георга II), взяточниками-парламентариями и покорными министрами и судьями (но тоже, конечно, взяточниками). Под масленые улыбки и сальные шуточки (ибо, говаривал Уолпол, к такому разговору всяк может присоединиться) он обтяпывал делишки свои, двора, государства… Но главной его заботой были мир и процветание британской торговли. Роберт Уолпол – это целая эпоха (20 лет!) мирного «внутриутробного» развития английского капитализма. Делая доклад за 1733 год своей государыне и любовнице королеве Каролине, он с гордостью заявил: «В текущем году европейские войны унесли жизни пятидесяти тысяч человек, но среди них не было ни одного англичанина» (К. Дэниел, с. 263). При Уолполе окончательно сложилась система британского олигархата. Парламент избирался на 7 лет (что означало минимальную подконтрольность депутатов избирателям), круг самих избирателей ограничивался высоким имущественным цензом, и в избранники народа попадали, таким образом, только «свои». Это было правление богатых исключительно в интересах богатых. Но на фоне абсолютных монархий Франции и Австрии и крепостного рабства в России эта усеченная демократия казалась безумно прогрессивной, единственно возможной и была предметом гордости даже для тех, чьих прав она в принципе не учитывала. Лодочник, перевозивший молодого Вольтера через Темзу, разразился перед французом гордым монологом о том, что он-де гражданин свободной страны и предпочитает быть лодочником на Темзе, чем архиепископом во Франции. На следующий день Вольтер осматривал тюрьму и… обнаружил там своего просветителя за решеткой. На ласковый вопрос философа, все так же ли тот отказывается быть французским архиепископом, перевозчик ответил: – Ах, сударь, это мерзкое правительство насильно завербовало меня в матросы флота норвежского короля, и, оторвав от жены и детей, меня заковали и бросили в темницу из страха, чтобы я не убежал» (цит. по: Акимова, с. 87). Удивительное дело: британцы ни за что не хотели идти служить в армию и особенно на флот, где условия службы были просто невыносимы (один солдат за 16 лет службы заслужил в сумме 30 тысяч плетей, – Тревельян, с. 376). Но, с другой стороны, британцы очень гордились победами своего оружия. И если к армейским относились все-таки недоверчиво, подозревая их в антидемократизме, то флот был любимцем нации. Каждый английский матрос мог повторить слова русской бабы: «Бьет – значит любит». *** В конце XVII века в Британии сложилась двухпартийная система. У власти поочередно менялись партии тори и вигов. Первоначально программы их были весьма различны. Тори были партией короля и помещиков, партией мира и союза с Францией. Виги представляли интересы торговой и промышленной олигархии и выступали за конфронтацию с континентальными конкурентами. Однако уже во времена Уолпола элита консолидировалась настолько, что партии поменялись программами. Виг Уолпол гордился своей мирной политикой. Сменивший его на посту премьера тори Уильям Питт-старший был выраженным «ястребом». Придя к власти, он заявил: «Когда на карту поставлена торговля, мы обязаны сражаться за нее насмерть» (Дэниел, с. 271). Суховатый, прагматичный и крайне самоуверенный, он заявлял: «Я знаю, что могу спасти Англию, мне одному это под силу» (там же). Ему не только удалось «спасти» Англию, но и заложить основы будущей Британской колониальной империи. В ходе Семилетней войны (1757–1763 гг.) Англия захватила у Франции Индию и Канаду. (Однако реакция маркизы Помпадур на это событие пережила и самое Британскую империю. Как известно, она изрекла тогда: «После нас – хоть потоп!») Политика Питта-старшего была столь безукоризненно успешной, что никто не удивился, когда в кресло премьера в 1783 году сел его 24-летний сын и тезка Уильям Питт-младший. Этот блестящий оратор, хотя в быту и крайне замкнутый человек, железной рукой продолжил дело отца. О тонком прагматизме его можно судить по тому хотя бы, как он в 1786 году аргументировал в парламенте необходимость торгового соглашения с Францией: «Если Франция приобретает новый рынок товаров в лице восьми миллионов англичан, то мы соответственно получаем двадцать четыре миллиона французских подданных» (Дэниел, с. 284). К середине XVIII века британский олигархат уже выработал систему политических противовесов, которую удалось прикрыть популярным у нас теперь лейблом «гражданское общество». Эта система была в силах осадить даже монарха. Так, Георг III посадил под арест парламентария Дж. Уилкса за неумеренную критику двора. Однако суд не только оправдал строптивого депутата, но и присудил ему денежную компенсацию за моральный ущерб. Лозунг «Уилкс и свобода!» сплотил тогда всех демократов. Даже сам Питт-старший вынужден был заявить, что если правительству удастся сломить Уилкса, это поставит под угрозу права и свободу всех англичан… Парадоксы «Гражданского общества» Что же такое это самое «гражданское общество», создать которое нас так настойчиво призывали в 90-е гг. прошедшего века? Ответ найдем, как всегда, у классиков: «В этом обществе свободной конкуренции отдельный человек выступает освобожденным от естественных связей и т.д., которые в прежние исторические эпохи делали его принадлежностью определенного ограниченного человеческого конгломерата… Лишь в XVIII веке, в „гражданском обществе“ различные формы общественной связи выступают по отношении к отдельной личности просто как средство для ее частных целей, как внешняя необходимость. Однако эпоха, которая порождает эту точку зрения – точку зрения обособленного одиночки – есть как раз эпоха наиболее развитых общественных связей. Человек… есть не только животное, которому свойственно общение, но животное, которое только в обществе и может обособиться» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 12, с. 709–710). В этой длинной и несколько тяжеловесной цитате мы, собственно, найдем и ответ на вопрос, почему торжество дикого капитализма со всеми его «гримасами» не привело Англию XVIII века к социальному взрыву. Погоня за личной выгодой стала целью каждого в отдельности и всего общества в целом, частный интерес сделался интересом всеобщим, то есть общественным, стал цементом социальной системы раннего капитализма. К сожалению, именно этого, как кажется, по разным политическим и экономическим причинам не удалось пока достичь нашим реформаторам… *** |
 | Вернемся, однако ж, в Англию. В знаменитой «Опере нищего» Джона Гея (1728 г., иногда переводят и «Опера нищих» – «The Beggar’s Opera») ее герои воры и разбойники рассуждают уже очень «по-бизнесменски»: «Разве мы более бесчестны, чем остальная часть человечества? Все, что мы добываем, джентльмены, – наше по праву оружия и праву завоевания» (цит. по: Хрестоматия по зарубежной литературе XVIII века», т. I, с. 101). Но ведь так оправдывала свои права английская старая (потомки норманнов) и «новая» олигархическая знать! Почему и вывод делается главным героем следующий: «…Пороки людей преступного мира и пороки богачей сходны» (там же, с. 106). Творение Гея стало особенно модным в высшем обществе: титулованные аристократы в живописных лохмотьях от души «прикалывались», играя в ней подонков на любительских подмостках под лепными сводами своих замков. Если французская знать любила рядиться тогда в слащавых, условных пастушков и пастушек, то британцы на всех ступенях социальной лестницы предпочитали ощущать себя этакими свободными рейдерами, пиратами и вообще были гораздо ближе к социальной действительности, чем версальские придворные – к своим декоративным стадам, фермам и пастбищам. Нет, не было британское гражданское общество на раннем своем этапе царством законности. Скорее, наоборот: англичане не только раньше многих других европейцев усвоили, что в основе любого богатства лежит преступление, но и смирились с этим как с неизбежностью. Этот не очень афишируемый, однако на повседневном опыте основанный вывод тоже весьма и весьма сплотил британскую нацию в те непростые годы (уж не по типу ли круговой поруки?), – и оставил глубокий след в английской культуре. Альбион стал родиной детектива. Раскрытие преступления в английском «дюдике» – это, прежде всего, состязание в уме и ловкости. Моральное осуждение преступления – даже у «дамы» Агаты Кристи – скорее, декларируется, чем составляет смысловую основу произведения. И все же – поговорим немного о духе вообще и о дочери его нравственности в особенности… Мораль как право, или « управляемая анархия » Очень важной опорой стабильности британского общества в XVIII веке была религия, – вернее, религиозная мораль. О принципиально честных банкирах-квакерах, заложивших основы профессиональной этики бизнесмена, уже упоминалось, Своим авторитетом суровая протестантская мораль освящала раннекапиталистические отношения. Возник даже особый термин для обозначения хозяина – «естественный повелитель». Подверженный массе случайностей английский предприниматель XVIII века – часто крайне, до суеверия, религиозен. Ведь свое богатство и свой успех он объясняет тем, что бог избрал его. Но проигрыш в делах и разорение тоже, возможно, запрограммированы, – согласно протестантской этике, каждый человек предопределен к успеху или неуспеху, однако окончательный вердикт бога может открыться лишь после смерти… Таким образом, в деловые отношения органично привносятся элементы морали. Во всяком случае, наряду с беззастенчивым рейдерством очень скоро возникают и движения, которые призваны посредством богоугодных дел (филантропии) отмыть совесть предпринимателя. Так, уже в начале XVIII столетия в Англии развивается движение Джона Уэсли – методизм. Уэсли видел в христианской проповеди и филантропии долг каждого богатого человека, долг перед богом и обществом. *** Парадокс духовной ситуации в Англии того времени в том, что если религиозность стала уделом средних слоев, то атеизм, деизм и материализм – «привилегией» высшего общества. Набожных последователей Уэсли аристократы презрительно называли «библейской молью». Таким образом, передовые взгляды исходили из среды консервативной знати, но самый прогресс общества стал делом рук ретроградски (в плане мировоззрения) настроенных кругов. Что ж, пассионариям всегда нужен миф, их окрыляющий самообман… Ф. Энгельс писал по этому поводу: «В противоположность материализму и деизму аристократии, именно протестантские секты, которые доставляли и знамя и бойцов для борьбы против Стюартов, выставляли также главные боевые силы прогрессивного среднего класса и еще сейчас образуют становой хребет «великой либеральной партии» (К. Маркс и Ф. Энгельс, т. 22, с. 311). Следует все же учитывать, что религия отнюдь не всегда становится моральным арбитром и идеологическим знаменем раннекапиталистического общества. Связанный с феодальным укладом католицизм не стал, например таковым во Франции XIX века. Трудно представить, что сходное в этом плане с католицизмом православие в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране способно стать позитивной идеологией нового общества… В сущности, первые умы Альбиона в XVIII веке Беркли и Д. Юм – не столько занимались проблемами веры (Юм, как кажется, вообще ими не увлекался), сколько исследовали новый феномен, – сознание вот этого самого отдельно взятого индивидуума, Робинзона, которым в раннем буржуазном обществе ощущал себя каждый его член. И каждый из этих философов по-своему констатировал очевидную ограниченность и относительность сил и знаний отдельно взятого человека. Впрочем, средний англичанин от этого в уныние не впадал. Общество ощущало себя на подъеме, исторический оптимизм и вера в себя перебивали горечь от временных поражений… Вероятно, интеллектуальной и художественной вершиной английского XVIII века стало творчество Лоренса Стерна. Полузабытый сейчас, он был глубоко чтим современниками и потомками (Пушкиным и Л. Толстым, в их числе). На страницах романов Стерна человек представал во всей тонкой сложности своей души и своей судьбы. Смертельно больной писатель (у Стерна был туберкулез) воспел жизнь как «управляемую анархию». Кажется, это лучшее определение для британской действительности того времени… Дом, не похожий на крепость В столь неуютных жизненных обстоятельствах человеку свойственно искать отдушину и опору. Для британца эпохи дикого капитализма такой отдушиной и опорой стал его собственный дом. «Мой дом – моя крепость», – чисто английская поговорка. Она отражает и тот факт, что в Британии впервые был принят закон о неприкосновенности жилища частного лица, и особый статус домашнего очага как национальной святыни. Для англосакса культ дома – краеугольный камень его ментальности. Хеппи-энд у домашнего очага – традиция английского классического романа. В жизни мы наблюдаем то же. Самое большое, светлое (обычно с эркером) и нарядное помещение в традиционном доме успешного американца – не гостиная (the seating-room), а комната совместного досуга всей семьи (the family-room). *** Уже три века назад иностранцы не без зависти отмечали: «Трудно представить дом, более удобный, чем английский. Никто в мире, кроме англичан, не может построить дом на таком маленьком пространстве и за столь короткое время» (С. Де Соссюр, – цит. по: Уоллер, с. 149). Правда, сперва уютный дом британца трудно было б назвать очень светлым. Введенный в конце XVII века налог на окна отбивал охоту прорубать в стене лишние лазейки для итак нещедрого английского солнца. Существующий в каждом традиционном английском или североамериканском особняке эркер – тоже, вероятно есть результат усилий законодателей. Эркер – потомок террасы, которой каждый хитрый лондонец застраивал ту часть землевладения, на которой нельзя было возводить капитальное строение, – ибо закон запрещал во избежание пожаров строить дома «впритык». Увы, комфорт английского дома двухсотлетней давности – весьма относителен. Вот этот дом в разрезе. В полуподвале расположены кухня, кладовые, комнаты для слуг и туалет по принципу выгребной ямы. Первый этаж отведен лавке или гостиной, второй – столовой, а на третьем – спальни хозяев. Таким образом, слуги вынуждены беспрестанно курсировать по лестницам, чтобы накрыть на стол или устроить господам помывку в их опочивальнях. Труд лакеев и служанок был так тяжел и столь востребован, что им первым, кажется, еще в конце XVII века удалось отстоять свои «профсоюзные права». Отдельно скажем о гигиене. По чистоплотности англичане того времени уступали только голландцам. Нет ничего удивительного в том, что уже в конце XVIII века в Лондоне было довольно много домов с ватерклозетом. Однако первая половина галантного века – еще царство выгребных ям. Протечка в подвале из переполненной ямы соседей – явление более обыденное, чем протечка через потолок в современном многоквартирном улье. Наряду с ночными грабителями особую опасность для запоздалых прохожих представляли опорожняемые из окон ночные горшки. В Эдинбурге (в этом городе тогда и дома в 6 этажей не были редкостью) существовал обычай: перед опорожнением горшка служанка кричала в темноту: «Берегись воды!» «Придержи руки!» – вторил ей прохожий и поскорей сбегал из опасного места. Великий сатирик Дж. Свифт без тени улыбки наставлял свою служанку: «Никогда не опустошай ночные горшки, пока они достаточно не наполнятся. Если это случилось ночью, вытряхни их на улицу, если утром – то в сад, иначе ты замучаешься бегать с чердака или верхнего этажа вниз и обратно, и никогда не мой горшок никакой другой жидкостью, кроме той, что уже в ней находится, ведь какая уважающая себя девушка станет плескаться в чужой моче?» (Уоллер, с. 168). *** |
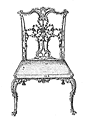 | Вообще быт того времени полон парадоксов. Взять, к примеру, шторы. Долгое время англичане не «занавешивались», боясь, что шторы станут легкой добычей вора через открытое летом окно. Особая песнь – стиль английского дома. Сперва британцы подражали голландцам (образец этого стиля – наш Монплезир в Петергофе). Затем тяжелую мебель, кафельную плитку и темноватые панели заменили зеркалами и гобеленами в духе французских особняков. Но уже к 20-м гг. XVIII века англичане выработали свой оригинальный «георгианский» стиль. Это значит, что стены обшиты гигиеничной панелью светлого дерева, а комнаты обставлены чиппендейловской мебелью, которая удачно сочетала в себе черты барокко, готики и «китайщины» (так называемый стиль шинуазри). Изящный, удобный и представительный, этот тип мебели покорил тогда даже юг Европы от Португалии до Италии. Зато из самой Италии англичане вывезли свой следующий по времени стиль – палладианский, так хорошо знакомый нам по классическим (неоклассическим) образцам русской усадебной архитектуры конца XVIII – начала XIX вв. Правда, экстерьеры британского неоклассицизма не достигли ни изумительных по чистоте линий творений самого великого Палладио (итальянский архитектор эпохи Возрождения), ни утонченной одухотворенности его французских и русских последователей. Но бесспорное достижение англичан – неоклассический интерьер (архитекторы братья Адам, мебель Хепплуайт и Шератон), строгий и элегантный. Едва ли не лучшими образцами своих интерьеров британцы поделились тогда и с русскими: комнаты в Царском Селе и Павловске по эскизам Ч. Камерона. Нет, не купились рассудительные сыны Альбиона на легкомысленный французский рокайль, затопивший в первой половине XVIII в. почти всю Европу!.. *** Не привились под хмурым британским небом и выстроенные по линейки «регулярные» французские парки. Примерно к середине XVIII века англичане разработали принципы пейзажного парка, который имитирует девственную природу. В парковом строительстве это не просто новая мода, – это настоящая мировоззренческая революция. Если раньше человек своим искусством как бы отгораживался от угрожавшей ему природы, уродуя ее топором, циркулем, ножницами, то теперь он вернулся к ней победившим учеником. Человек устремился назад к природе, лишь почувствовав себя в безопасности от нее… *** На протяжении XVIII века разительно изменился и сам быт англичан. Во многом этому способствовало машинное производство. Новые технологии удешевили товары и сделали их доступными массовому покупателю. Однако конкуренция с шедевральным (на грани художества) ремесленным производством на континенте сохранялась, а это диктовало высокие эксплуатационные и художественные качества изделий. Взять, к примеру, фарфор. В Европе на этом рынке доминировали французы (Севр) и немцы (Мейссен). Но и те и другие «гнали» сплошной «эксклюзив» дворцового уровня. Британцы же научились наносить рисунок на посуду машинным способом. Это значительно удешевило их изделия, сохранив планку высокого вкуса. Так, знаменитая фабрика Дж. Веджвута стала выпускать как массовую качественную продукцию, так и штучные образцы (например, серию орденских сервизов для Екатерины II по мотивам российских государственных наград). То же можно сказать о тканях и другом «ширпотребе». Оригинальный английский вкус входил в моду, вербуя себе сторонников за границей. Примеры: наш князь С. Воронцов или французский посол в Лондоне граф де Гин, столь отчаянный англоман, что король был вынужден приставить к нему вездесущего Бомарше, дабы подстраховать интересы Франции. Люди |
 | Европа открывала для себя Альбион, а сами англичане открывали для себя – себя же. Дж.М. Тревельян очень точно отмечает: на всей английской культуре XVIII столетия (особенно первой его половины, – В. Б.) лежит печать «журнализма». То есть жизнь меняется здесь так быстро, перипетии ее так головокружительны, а типажи столь ярки, что успевай только фиксировать. Оттенок репортажа или памфлета лежит на романах Дефо и Свифта, Филдинга и Смоллетта. «Журнализмом» пропитаны и серии картин У. Хогарта. Они посвящены злободневнейшим темам: «Модный брак», «Карьера шлюхи», выборы в парламент, поголовное пьянство народа. Гравюры по ним расходились, как горячие пирожки, а сам принцип серии чем-то напоминает современные комиксы. И хотя образы Хогарта порой просто карикатурны, а сюжеты зловещи, это не мешает его картинам быть парадоксально жизнерадостными и даже… светлыми. Да, в прямом смысле слова, это – как в комиксе: жизнь в любых формах, но понарошку. У Хогарта, во всяком случае, зло выглядит несколько «понарошку», потому что перебивается подспудным искрящимся жизнелюбием художника. Элемент аффектированности и театральности присущ и произведениям Дж. Рейнольдса, хотя он подвизался, прежде всего, в качестве мастера парадного портрета. Однако зрителя не оставляет ощущение, что, принимая перед художником эффектные позы, его герои «прикалываются». Словно бы им не терпится поскорее сбросить с себя путы условности и засесть с маэстро за обильный стол или рассказать ему о новациях в области осушения болот, или поведать, что леди L… и мистер F…, – o, god-dam!… |
 | Короче, это полнокровные и далекие от чрезмерной рефлексии люди. Впрочем, во второй половине века появляется художник диаметрально противоположного склада, – Т. Гейнсборо. Утонченность, одухотворенность и почти всегда меланхолия, – вот черты его портретов, решенных в цветовой гамме туманного летнего вечера. Человек на его полотнах очень часто «растворен» в дивной природе, и уже одно это сообщает даже тривиальным светским хлыщам некую значительность и загадочность. Правда, сам художник был отнюдь не чужд сарказма. Изображая знаменитую актрису Сарру Сиддонс, он проворчал: «Нет конца вашему носу»… Приглядитесь к образу этой безукоризненной красавицы: весь ее портрет решен как система последовательно выпирающих друг над другом носов… *** |
 | Избыток жизненных сил и незнатность «новой аристократии» (большинство лордов являлось таковыми во втором-третьем колене, это все была олигархия, пришедшая к власти после английской революции), – короче, высокой культурой «высокий лондонский круг» не баловал тогда визитеров. Вольтер вспоминал: «Дамы были натянуты и холодны в обращении, пили чай и шумно обмахивались веерами. Они или не произносили ни слова, или принимались кричать все сразу, понося своих ближних» (цит. по: Акимова, с. 86). Конечно, на протяжении всего XVIII века манеры английской элиты шлифовались, хотя и на его исходе поведение героев «Школы злословия» Шеридана не столь изящно, как у Графа и Графини в «Женитьбе Фигаро» Бомарше. Огромную роль в шлифовке кадров английской знати сыграл «красавчик Нэш». Этот человек много лет кряду руководил модным курортом в Бате, – месте непременного отдыха британского истеблишмента. Правда, сперва ему во главе отряда добровольцев пришлось очистить местность от разбойников. «Дирижируя» (термин того времени) балами и праздниками в Бате, Нэш самим своим обликом и поведением обучал английских джентльменов собственно «джентльменству». Столетием раньше роль культуртрегера для французской знати сыграла маркиза де Рамбулье. Но разительное несходство эпох и национальных культур: маркиза была праздной и статусной личностью (знатная дама), а Нэш – частным лицом и, по сути, предпринимателем. Те же из англичан, кто скучал по солнцу и истинно высокой культуре, уезжали в многолетние вояжи на континент. Таким долголетним путешественником-космополитом был, например, сын Р. Уолпола Гораций (Орас) Уолпол. В молодости утонченный сын главного взяточника страны побывал во Флоренции, где мог воочию наблюдать как высочайшие достижения культуры, так и совершенный личностный распад наследника великой традиции, – свальный грех, которому придавался погруженный в меланхолию Джан-Гастоне, последний Медичи. О. Уолпол стал автором первого «готического» романа (первого литературного «ужастика») и вообще ввел в моду мотивы готики, построив в этом стиле два своих загородных дворца. Кажется, в средневековом изяществе и мрачноватом гротеске англичане нащупали тогда в культуре свое «лица не общее выражение», свою некую самость, – еще за полвека до собственно эпохи романтизма. Впрочем, сам О. Уолпол был уже исключительно «романтической» личностью. Чего только стоят нежные чувства, которые питал 60-летний Уолпол к 80-летней слепой маркизе дю Деффан! История их отношений стала едва ли не самым парадоксальным преданием мирового амурного «гламура»… Так звонко и ярко начавшееся английское «осьмнадцатое столетье» завершало свой путь в тревожных сумерках и туманах. Европа погрузилась в пучину войн, которые все больше грозили гордому спокойствию Альбиона. Но ведь и сама жизнь британцев обнаруживала новые проблемы, новые, неожиданные и не всегда приятные глубины. Капитализм открыл пасть, полную таких зубов, что отдельно взятая личность вдруг содрогнулась… Если знаковой фигурой английской литературы начала XVIII века был Даниэль Дефо, герой которого, как мы помним, не сплоховал и на необитаемом острове, то популярнейшей авторессой последних лет столетия стала Анна Радклиф. Мучимая ночными страхами за мужа, который все никак не возвращался из клуба, она раззадоривала себя всякими ужасами, а после записывала их в форме романов. Бульварщина? Конечно! Зато созвучная массе ее современников… Правда, никаким журнализмом (даже желтого колера) в творениях А. Радклиф не пахнет: это, скорее, такая поэзия в прозе, а она сама – одна из предтеч романтизма. (Неизмеримо более талантливый образец этого рода прозопоэзии ужасов – «Остров Борнгольм» нашего Николая Карамзина, который творил практически синхронно с миссис Радклифф). Впрочем, расцвет поэзии и романтизм – явления новой эпохи, эпохи сомнений и разочарований. О ней как-нибудь в следующий раз. А пока, Пятница, где мой ужин?.. Использванная литература Акимова А. А. Вольтер. – М.: Молодая гвардия, 1970. – 446 с., ил. – (Жизнь замечательных людей) Акройд П. Лондон: Биография. – М.: Издательство Ольги Морозовой, 2007. – 896 с. Дэниел К. Англия. История страны. – М.: Эксмо, Спб: Мидгард, 2007. – 480 с., ил. – (Биография великих стран). Уолллер М. Лондон. 1700 год. – Смоленск: Русич, 2003. – 384 с, ил. – (Популярная историческая библиотека). Тревельян Дж.М. История Англии от Чосера до королевы Виктории. – Смоленск: Русич, 2007. – 624 с., ил. – (Популярная историческая библиотека). Хрестоматия по зарубежной литературе XVIII века. – Т. 1-й. – М.: Высшая школа, 1970. – 462 с., ил. |
Валерий Бондаренко
 Здравствуй, дикий капитализм! Англия 18 века
Здравствуй, дикий капитализм! Англия 18 века